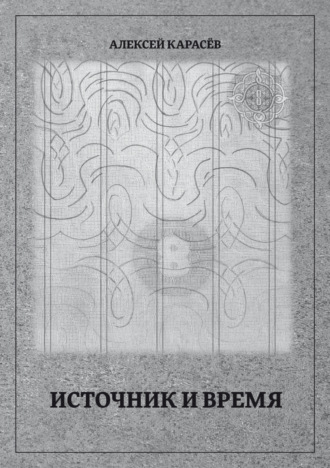
Полная версия
Источник и время
Вырванный из привычного лона, смотрящий и жаждущий видеть, надрывает человек скудные свои силы в стремлении вырвать то, что имеет. Но стремление его – грех его, а стремление иметь то, что видишь, – лишь смерть. И опыт этот нужен, может быть, лишь для того, чтоб пред лицем веры принести его в жертву, оттолкнуть его и совсем перестать жить им. И уж тем более, кто знает, захочет ли Бог принять эту жертву; или обратит взор Свой на совсем ещё только родившегося, мокрого, вот-вот вылезшего из материнского утроба; на что тот, последний, проглотит вырывающийся крик и больше уже не вспомнит о нём, будто его и не было. И будет он иметь всё, чтобы жить. А ты обречён; всей своей мудростью, всем своим знанием, всей своей жизнью, что добыта в благих, но не богоугодных делах, ибо благо – всего лишь благо, если оно не оружие в руке Бога живого и не меч, принятый из рук Божиих. Ты обречён лишь умирать, неся свой опыт, свою жизнь на потребу смерти и конца. И кажется счастьем, если до последнего мига не узнаешь ты о том, чем был, и сойдёшь со спокойной совестью в могилу; и только там вдруг удивишься, что участь твоя так же страшна, ибо страшно попасть в руки Бога живого; и спасутся не те, кто жил достойно, но те, кто умел побеждать и не называть добро – добром, а зло – злом, вопрошая о Боге и не прося о законе человеческом, принятом от греха, иссушающем древо жизни и убивающем Бога живого, ибо вера не в законе, а в Его произволе; им и исполнена. И не принимай мерзость за двусмысленность, коль скоро заговорил о «да» и «нет». И закон твой – беспринципность, возведённая в абсолют, ибо он – закон человеческий – последнее прибежище негодяя, – когда некуда идти, кроме как туда, куда идти хочешь и к чему стремишься, – убить Бога живого, умерев самому.
Диву даёшься, коль скоро прожитая и накопившая силу мудрость ниспала, унизив и отвратив лицо своё от того, что есть соль, и в падении упорствует, возводя добро и зло, называя свет – светом, а тьму – тьмою. И разве благостен для взора тот, что есть соль в удовлетворение иль в удовольствие? Но коль так – не страшен ли лик Его во грехи человеческие? и не благостен ли в насыщении дьявол в белых отуманенных одеждах, когда благо – лишь благо, а не спасение? Ему вбивать клин, говоря о твари и Творце. Ему искушать в пресыщение, и ему свет в руки, дабы не сбился человек с пути его и не узнал, как страшен лик Бога живого, когда всё ещё теплится маленькая надежда на спасение. И укрыть ярким светом земным лик Бога живого, и унизить Сына Его в смерти, и отвратить взор человеческий от ужаса того, что он есть.
В отдалении ли, вблизи ли, пускаясь во все тяжкие, спускаясь на дно или барахтаясь на мелководье и воспринимая свет земной, помнишь ли ты, где находишься? и что делаешь? И что проку, если благие посулы лишь в насыщение, а насыщение – в удовольствие, будто нет ничего кроме, будто нет того, что невидимо, будто всё, что у тебя есть, способно иметь то, чего быть не может; и не может ли? И будто бы, чтобы быть, надо всего лишь быть, и чтобы иметь, – надо всего лишь знать. Или, может быть, ломиться в открытые двери, изнывая от неразрешимости вопроса? Но не дверь закрыта, а ты немощен, ибо ставя вопрос – отсекаешь десницу, ставя другой – колешь око, а давая ответ – убиваешь себя. Так как же ты намереваешься идти, если ответ для тебя – ответ, а вопрос – вопрос?.. Или, может быть, ты не хочешь попасть в руки Бога живого? И хватит ли у тебя сил не ставить вопросы и видеть всё как есть, если ниспал ты в первом грехе своём и умер в нём, так и не вкусив жизни? и не вкусив, не зная, что живёшь.
Глас вопиющего в пустыне более способен, ибо он не ждёт ответа, а лишь знает в надежде. А кто хочет ответа, пытая окружение и уродуя себя в стремлении лишь удовлетворить похоть познания, – ущербен, ибо упрям в желании не начала, но конца. И это торжество цивилизованных подонков, кроющих мерзость за благими речами и облагороженными действиями, ибо дела их – во грехе, а лица их умнее самих себя; и добро их – всего лишь добро, а зло их – не больше, чем зло; а убеждения их – только убеждение, а жизнь их – не больше, чем их смерть. И можно ли жить среди этого и не надорваться, не кануть в бездну, поддавшись смерти в торжестве беспредела разума? – Но как ты тёпл, то изблёван будешь.
И уста немеют, и глаз застит, и дождь находит свою землю, и снег укрывает зиму там, где был твой дом, где рождён ты подобно тысячам живущих, разве что молчаливее и неприметнее, сливаясь с окружением и выдавая себя лишь тогда, когда очень уж ретиво домогались. Но разве дом твой затерялся среди тысячи домов? Разве земля твоя исчезла в толще других? И разве забыл ты родившую тебя там? Но если и вправду – дом твой затерян, и земля твоя покрыта, и забыл ты? Если и вправду – всё утеряно и ушло? Что тогда остаётся? И остаётся ли вспомнить, потеряв? И остаётся ли вспомнить, что ушло, и сделать потерянное – обретённым, живым и побеждающим? Или в угоду форме стенать об утраченном, полагая, что всё, что навсегда, – навсегда, и что лишь на время, – тоже навсегда; ибо жизнь – она лишь жизнь, если она не вечна.
Так что человек? Грех ли? Тварь ли?.. Но ведь это змию нужна бездна, чтобы не было видно края пропасти и чтобы там никто не ждал.
И первое слово его – пропасть, второе – бездна, третье – смерть.
Так что говорить о Всетворце и молчать Бога живого? – Бездна и смерть. И что от веры, коль знал ты Всетворца и умолчал в сердце своём Бога живого? ибо пытается человек обрести Всетворца в тщетной попытке познания, а Бога Живого любит… Он проживает твою жизнь вместе с тобой… И умирает вместе с тобой… И даже когда ты Его убиваешь… Так чего же тебе ещё?..»
Уже наступил рассвет, когда он остановился. До этого путь проходил средь узнаваемых мест, которые вдруг стали отдалёнными, почти чужими, и только известное чувство причастия позволяло не запутаться и всё же каким-то образом отнести себя к окружению, безмолвному, отстранённому, напоминающему о себе не прямо, а так, опосредованно, чтобы, наверное, не беспокоить. И в этом угадывалось, что он сюда не вернётся.
Остановился он от усталости неведения. Неведение устало быть с ним отошедшим и осталось чуть поодаль, устроившись у поваленного дерева, ещё не отдавшего листвы и не испустившего свои соки в землю.
Он осмотрелся. За несколько часов ходьбы его вынесло в окрестности города, и ему на какое-то время подумалось о том, как же он будет без всего; что надо хоть за чем-то вернуться, – может, за самым необходимым, чтобы быть способнее. Но это длилось недолго, и он забыл об этом, даже не удивившись своей безответственной прыти.
Странным показалось ему его окружение, злобным и неестественным. И внезапно образовавшийся нарыв вдруг лопнул, и дурная кровь схлынула, оставив его совсем одного.
Он не знал, куда шёл, и это его совершенно устраивало.
Ежели будут рождаться ещё слова и ежели будут походить они на музыку, идущую с неба, то и найдутся люди, кои услышат эти звуки, но людей этих знать не придётся в порывах суетной и порочной жизни, когда открыто много дорог – дорог манящих и уводящих, сулящих видимое благо и дающих его.
Всё это дороги земные. Даже при самом благостном расположении ходить ими всё же ущербно именно потому, что как бы далеко и как бы долго ни шёл, а конец неминуем…
Не стоит ходить дорогами земными. Не стоит знать открытий, ибо открытия убеждают в верности пути. А уж коль скоро занесло, то стоит вернуться назад, к дому, дабы не увести себя за точку возврата, когда груз приобретённого спутает ноги; и при всей силе и при всей славе всё уже будет потеряно. И даже если сердце будет шептать, и даже если шёпот этот будет услышан, – то и это уже ничего не изменит. Падающий сожалеет о своём падении и всей своей нажитой мощью пытается взмахнуть крылами, но вместо хоть каких-нибудь слабых крыльев у него всего лишь сильные руки. Так что лучше, может, даже и не пытаться, и не знать, и умереть по жизни глухим со счастливой улыбкой…
Хордин уходил далее.
И вот, казалось, когда невозможно ничего изменить, когда всё омертвело и ждёт своего полного конца, когда смерть уже почти празднует победу, ещё и ещё раз утверждаясь над миром и ставя на всём свою печать, находится-таки совсем маленький, до невозможности тесный просвет, вкладываясь в который уже не думаешь о «быть или не быть?», «что делать?» и «кто виноват?», – об этих дурацких вопросах трепетной, бессильной жизни, тешащей своих вырожденцев, заставляя их не иметь истину, а искать её; заставляя всю эту нелепую челядь выдумывать себе бога по грехам своим, прикрывая свою собственную немощь своим же собственным позором. И это уже не гамлеты, умирающие от безысходности. Это воинство человеческого интеллекта, склонное к ответу и даже «знающее» его. И вся эта воинственная мерзость – оплот цивилизации, давящий из себя попытку бессмертия, пестующий светлые гуманистические идеалы человечества. И это ведь не подростки. Это вполне зрелые люди. И, тем не менее, при всей своей ущербности и вопиющей беспомощности мира пред Истиной и Правдой, иллюзорности его ориентиров перед действенным и побеждающим: Лазарь! иди вон, – мир этот торжествует. Но торжествует в самом себе. – Торжествует в вырождении и побеждает в смерти…
Пока Хордин шёл прочь, не отдавая отчёта. – Приближаясь…
В бесплодной попытке разродиться хоть каким-нибудь видимым результатом, дабы не носить в себе этой невозможности, не подначивать себя лишний раз, призывая свою немощь выдать и представить всё в «благородном порыве гуманистических идеалов», ставя вопросы в безудержной гордыне своей что-то мочь – как ещё можно на что-то надеяться после этого? И как можно вообще притронуться к перу и вылить на лист бумаги то благо, которое будет лишь мерзостью в глазах Божиих и обернётся, кажется, – неминуемо обернётся, – запустением и смертью?
Что же тогда остаётся?..
Нет тебя…
За окном упорствовал дождь, и он отметил про себя, что лето сломлено и вряд ли способно что-то отвоевать. Оно сломлено безвозвратно, и это совершенно вписывалось в его жизнь; и думалось ему, что жизнь следует этой безвозвратности в последний раз, абсолютно, без ранее присутствующей относительности и вариантности.
Были выходные. Мария с однокурсниками уехала «в поле», и он решил, что с погодой им не повезло. Впрочем, тут же поправил себя, что это, пожалуй, ему «не повезло» с возрастом. Покойно ему стало от такого решения. Хорошо и уютно.
Почему-то вспомнилась Кира. Почему-то вспомнилась прежде всех. Ему представилось, что неопределённость памяти и хранит её чистоту. Но память заменила человека, и этим утверждалась вина. А Кира молчала, и память о ней была немой… Казалось, то была память уже не о земном человеке, а как преддверие другого, как надежда на него и возможность о нём… – Память переходила в образ… Для того, чтобы, может быть, начать восхождение…
Утро откликнулось на его настроение белёсым лучом солнца, невесть почему возникшим, не могущим, казалось, ничего решить, но всё же таким необходимым, пробивающим серую пелену неба и тающим на глазах с неумолимой определённостью. Он проводил его и засобирался из дому, дабы быть ближе к неминуемому.
Едва выйдя за дверь, встретил соседку с сыном и, уже проследовав мимо, услышал:
– В пику многословию и рассудительной похотливой словоохотливости должно же быть что-то безусловное, иначе и жить не получится…
Наверное, он не обратил бы внимание на эти слова, если б не шли они от соседского мальчишки, которому было лет пять-шесть от роду. – Он даже в школу ещё не ходил. Сергей приостановился, а мать только растерянно улыбнулась и смущённо пожала плечами. С таким предисловием он и очутился на улице.
«Когда буква исполнится духом, когда наступит время быть истине зримой, когда то, что убывает от зримого, будет убывать и от истины, тогда правда – это единственное, что будет определять человека».
Он посмотрел вокруг. – Зелёные шелестящие тополя. И даже пятипалый каштан на том же месте. Бабушки, сидящие на скамеечке у дома, и сосед со своим автомобилем, и дети, уже вернувшиеся с дач и гуляющие последние дни перед школой; и порывы ветра, блуждающие в кронах, – как и в пору его детства и набежавшей неизбежной юности. – Будто соприкасаемые этой правды… Но разве это то же?.. Так когда правда – это единственное, что будет определять человека? если она уходит? – Он осмотрелся… Правда не может быть далеко. Правда рядом… В шаге, всегда… Правда в повороте головы… Помедлив, он всё же обернулся. Что-то мелькнуло перед глазами пролетевшей птицей, детским мячиком, брошенным неокрепшей рукой. Мелькнуло и исчезло. И он, следуя этому движению, подался вперёд, тут же встреченный порывом набежавшего ветра.
Параллельный характер существования определяет течение жизни. И плачет душа человеческая от невозможности осуществления, и по ущербу своему преобразует невозможность в многообразие, и выбирает из него образ себе, придавая образу этому – возможность и сокрушая единое – на возможности; и меркнет, ибо с существом уже иметь дела не может. Засыпает её, а она выбирается, выбирая возможное из возможности, творя образ новый, рассыпая уже и то, что было… Так какого осуществления ты хочешь, если ты уже никто и зовут тебя никак? и имя твоё не оправдано, и творишь, – потому что тварь, и по возможности своей – вне творения…
Уповая на скромные силы свои, видит человек всю тщету своих же попыток хоть как-то определиться от неразрешимости сокровенных чаяний. – Дабы не был чужд повелевающий глас Божий в сокрушении вольного, навязчивого поиска души человеческой своего малого места в угоду всепроникающему времени, в кажущейся, постоянно возрожденческой просвещённости и парения «над» против восхождения «к»… Где твои ступени? Где твоя твердь? – Подует ветер – и нет тебя…
Нельзя избежать сущего, и когда померкнет образ Божий в человеке – кончится человек; и умрёт, умерев смертью в смерти, – и нет его…
Всё-таки белёсый луч оказался прав и определил своим появлением дальнейшее состояние дня. Нет, наверное, он не смог отменить осень, но внёс в течение времени некоторые послабления в угоду, казалось, привередливой человеческой природе – придавать вещам условный характер.
«Мне никогда не пережить себя прошлого. Прошлое восстаёт и принуждает память сердца… Но всё-таки оно действенно, а посему – своевременно и желанно. А то, что современно, – несвоевременно, мертво… Не человек должен идти в ногу со временем, а оно, время, в ногу с ним… И что его относительность в отношении благодатной абсолютности человека в пределе своём?.. Человек должен быть с Богом… И что ему время? – Всего лишь время… Вот только Киры уже нет…»
Ещё в пору своего жениховства, можно сказать, на заре туманной юности, довелось ему бывать со своей будущей женой у родного дяди Киры, жившего после отставки в деревенской тиши, в доме с близким лесом за окном и прилегающим прямо к крыльцу яблоневым садом. То было время бурного цветения и солнечного света, которым пропитан прозрачный юный утренний воздух.
Кира была очень привязана к дяде, и порой казалось, что привязана даже больше, чем к своему отцу, хотя, наверное, это только казалось. Кира была немногословна. Дядя же был значительно старше своего брата, и летнее время детства Кира провела здесь, младшей и любимой, в компании старших, а потом уже и взрослых, братьев и сестры.
Общий стол и белый сад, завтрак и прогулка в лесу, неосознанная радость надежды и, уже сегодня, осознанная горечь поражения… Поражения собственного…
«А если это поражение всех и во всём? И как же быть с правдой?.. Если правда есть, то, значит, не может быть поражения всех и во всём. Откуда же это стойкое ощущение, вот-вот готовое перейти в плач? И как же Кира? радостная и молчаливая в тот день. Совместная лёгкая поступь краем леса и неслучайное ощущение вечности. – Может быть, наивное, безмятежное, детское, но, безусловно, вне потребительства; скорее, всё-таки, в приближение к единому… на потребу… – Не проронить бы ничего… Радость, но без Бога, рано или поздно перейдёт в удовольствие потребления и обернётся поражением, бедой… Не хватило поворота головы… Неужели Кира всё понимала… и молчала… В попытке быть счастливыми без Бога и не за чей-то счёт… Вне поражения всех и во всём…»
Памятуя о человеческой невозможности жить непосредственно и всем сразу, с одной стороны, и о совершенной невозможности не жить этим, что ещё можешь ты? Что ещё можешь ты, оставляя внутри себя поле для себя самого, «личное» своё пространство свершения, в надежде прорыва, спасительности его и мотивации своей собственной жизни? Откуда это упорное стремление обращать заданную по определению скорбь в личное счастье? – В отчуждение души своей от Бога, призря на себя и на что угодно. Где счастье – всего лишь часть, если оно не от Бога; и суть его в удовольствии души без причастия, хотя, казалось бы, ей-ей… А как же иначе?
Где твои слёзы и где твоя радость? – Нет тебя…
«Что временное, то временно, и что растёт во времени – убывает в вечном… Время вне правды… Где твои прогрессы и где твои познания?.. Где твоя радость и где твои слёзы? – Нет тебя…»
Мимо прошёл далёкий школьный товарищ, и поздняя сорокалетняя волна хлынула и позвала за собой. – Сергей поднялся и устремился вослед, в два прыжка нагнав уходящего друга. Тот же, будто следуя обоюдному призыву, обернулся – и немым тёплым вопросом исполнилось лицо его, и он застыл на мгновение, словно время вдруг задумалось, стоит ли возвращаться; но решилось пойти навстречу людям, чтобы как-то соответствовать себе самому в дне сегодняшнем – без да и нет, без прошлого и настоящего, без настоящего и будущего.
– Здравствуй, Игорёк. – Как там твой Вальпараисо – голубая мечта детства, наивный ожидаемый праздник и неправая возможная горечь? Где город, что ждал тебя и не дождался?.. А может быть, дождался? И как принял тебя пролив Дрейка, и протрубил ли тебе мыс Горн, и что сказал тебе на прощание Санта-Инес? И, может быть, приветствовал тебя порт парусами, и орудия его отозвались салютом на счастливый возглас твой: здравствуй! я дошёл! И не ощутил ли ты потери, когда нога твоя ступила на берег, и твердь обернулась тревогой, и судно твоё растворилось в воздухе, исчезнув навсегда, и…
– Осознав это и пытаясь вырваться, очнулся я от тонкого утреннего сна, застав беспокойство на самом краю его; и уже будто не было счастья, и миг беспокойства определил всё последующее, оставив правду – воспоминаниям того, что не сбылось… Вот я и побывал здесь. Здравствуй, Вальпараисо! Я дошёл! – он счастливо улыбнулся. – Здравствуй, Серёжа.
– Воспоминания о том, что не сбылось, и оставленная в них правда… Оставленная правда… Кто бы мог подумать…
Он резко повернул голову, будто пытаясь увидеть то, что не сбылось… Но как?
Но это было мгновение. А после он возвратился, и Игорёк с неподражаемой мальчишеской сединой всё ещё не оставил улыбку, и смотрел на него, и ждал чего-то. И сжало сердце от его напрасной надежды и утверждающегося «сегодня» и невозможности той ускользающей правды, что так счастливо вместила и соединила их. Но явно это было не для того, чтобы обратить их в прошлое, – а лишь вытянуть из той лжи, что подстерегала и ждала их, оскалясь улыбкой в мёртвой прелести лица. И она уже вот-вот праздновала победу, обыденно, по-деловому, не без участия даже, ибо и сама была, казалось, обманута: уж больно родное всё тут, больно близкое. Да разве она зла хотела? – она научилась быть доброй и участливой, искренне полагая, что любит человека и готова ради него почти на всё – даже, казалось, забыть самоё себя. – Но ведь это же в порядке вещей. Поэтому Сергей лишь пожал плечами и в смущении улыбнулся. – И Игорёк понял его. И слёзы подступили, и влажно залучились глаза, и обратилась Кана Галилейская, и любовь Бога живого коснулась и поместила всё на место его; и утвердила и исполнила, и отпустила, и направила – к ещё только возможному, но обличённому и уже почти зримому.
И сколько раз ещё предстоит рухнуть, и сколько раз быть отброшенным к тем прискорбным началам, которые, кажется, тут как тут, – и не удаляются даже, а всё время за спиной. Вот тебе и рост, вот тебе и опыт, вот тебе и мудрость житейская, что призвана оберегать и наставлять – побуждать смотреть под ноги, дабы не споткнуться. А он и не споткнулся – и даже вроде не перестал идти. А под ногами – болото, – так и ушёл в рост; и споткнулся бы, плюхнулся плашмя, и опёрся. – И не затянуло бы. – Отполз бы немножко, твердь почувствовал и, глядишь, встал бы. Так что мудрость твоя житейская и где твоё упование? – Нет тебя…
«Или, может быть, осваивая новые потребности, просесть не под «изменчивый мир», нет. – Просесть под себя. И ходить под себя облагороженными нечистотными испражнениями отработанных высоких потребностей… Или пестовать в себе общественно-обусловленную ересь, плавно переходящую в интеллигентность, образующую себя из мнения и живущую ради него; дабы мнить, подменяя. – Хорошее дело мнением не назовут… Так где же ты? если мнение в тебе – место правды. – Если правда в тебе не сбылась? – Нет тебя…»
Изменяя, не любя, – разрушаешь; и желание перемен – желание уничтожить. Кто же не имеет милости – получит справедливость. Так каких же перемен ты хочешь, если придут перемены – и нет тебя?..
Или пробовал ты врагов своих на зуб и на вкус? Или жил ты наружу, не желая иметь с этим миром ничего общего, кроме Бога? Или обратился в холуя потребления и мнил жизнь свою из себя самого?.. Нет тебя…
Или же в уподобление времени и миру строил даже не себя по образу Божиему, а образ Божий по себе, говоря о том, как жить, – тому, кто знает, как выживать?.. Или ты хотел быть счастливым, здоровым и любимым помимо Бога?.. Нет тебя…
Или же по разумению своему не обратился ты в полностью умного человека и не стал членом клуба любителей собственного мнения?.. С лицом умнее себя самого?.. – Нет тебя…
Или, может быть, искал ты сродства Бога и души своей, утверждаясь в духе и живя в нём?.. Или получил ты лишь своё лишнее мнение; и пал, упав, – и не поднялся, поднимаясь?.. Так чего ради ты жил и тешил дьявола долго и настойчиво, будто бы нет его; узнавая и принимая? – Утвердившись в конце концов во мнении своём и, что хуже, утвердив его в себе; и связав им, и обрёкшись на него? – И опять закон – последним прибежищем негодяя, и опять право – лицемерным подобием правды; и пресеклась литургия, и поруган ты. – И любовь твоя – любовь к дешёвым эффектам… Или к дорогим дешёвым эффектам… Или к очень дорогим дешёвым эффектам… И остался ты без промысла Божьего, умерев смертью в смерти… И нет тебя…
Игорёк сидел рядом, безмолвно следуя выбранной ноте, сверяя свою сегодняшнюю жизнь с вдруг наступившим безмолвием или, может быть, с собственной, вдруг наступившей, глухостью ко всему, казалось, окружающему. – С собственной немотой, то есть полной неспособностью производить звуки и отдавать их окружающему миру на потребу, чтобы тот был вроде как живым. Состояние и стремление это не было удивительным. – Скорее, оно было ожидаемым. Но поскольку оно было совсем, казалось, не от мира сего, то приходилось даже и удивляться: как же так?! Но это не само по себе. – Благо, как и чудо, естественно; а удивление – признак болезни, пусть даже и на излечение.
– Слушай, Серёжа, прежде чем перейти к обычным основам существования, может быть, лучше…
Он замялся. – Тем более что в этот момент перемещавшийся рядом по дорожке прохожий вдруг упал, споткнувшись о какое-то незаметное препятствие. – Упал, впрочем, довольно удачно, успев сгруппироваться и отделавшись мелочью. Поднявшись, негромко, себе под нос, но отчётливо произнёс:
– От земли и дерьмо – хлеб, а от асфальта и человек – дерьмо.
И почему-то посмотрел на Сергея.
«Вот и достойное продолжение дня».
– Так что может быть лучше, Игорёк?
– Да ничего… Забыл… – ответил тот.
Они сидели ещё долго, практически ничего не говоря друг другу и переживая это время по-иному, не из него самого. – Время отпускало их. И слово их было молчащим, а посему и определяло больше.
И когда день уже перешёл на вечер, а небо прояснилось, освободив отходящее солнце, они разошлись, продолжив утраченное и не оставляя его.
«Кира, Кира, – что же ты молчишь? Что же ты молчала?»
Он понимал, что Кира не ответит – ни тогда, ни сейчас. – Но если невозможно ответить словом – приходится отвечать жизнью… «Сильна как смерть любовь… Но тогда, у дяди, средь яблонь и на опушке леса этого не было. Не было этих шагов. Что шагов! – Топота… Были, были. Их не было слышно. Мы их не слышали… Кира, Кира. Что же ты молчала… Они должны были притереться друг к другу и из двух половинок составить одно целое, но они истёрлись друг о друга – и не осталось ничего ни от того, ни от другого… Вот и первое начало термодинамики… Вне правды… Слишком уж ты инженерен, как я погляжу… Кира, Кира, всё случилось по-другому… Правда слишком далеко от человека, чтобы быть зримой… По определению… То, что зримо, – вне правды…

