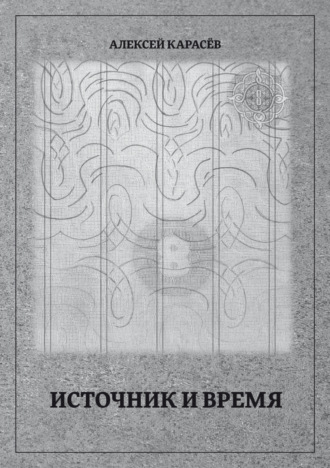
Полная версия
Источник и время
Скажи хоть слово. Я не помню твоих слов. За всё время ты не сказала ничего. За всю нашу жизнь ты не сказала ни одного слова. Разве так можно? – Разве такое возможно? Или говорить, обитая во лжи, – это лгать, оставаясь честным? – Ложь многословна, даже если честна… Ведь можно, наверное, оставаться честным, живя по лжи, и жить по лжи честно и добросовестно? Можно же, наверное, оставаться честным и жить не по правде и оставаться честным, живя по лжи?.. То ли ещё будет…»
Был вечер; тёплый вечер юности – начинающейся, но уже и продолжающейся, жизни. Был вечерний чай и общий сбор за столом. Был сообразный тихому вечеру дух сродства и родственного соучастия. Были он и Кира, были братья и сёстры… Было, наверное, и слово – участливое и сопричастное, доброе и проникновенное, праведное и милостивое, справедливое и искреннее… сказанное в уже тогда наступающей, а может, просто затаившейся, неправде… То ли ещё будет…
Когда он вернулся, Мария была уже дома. Она приготовила ужин и ожидала, что отец вот-вот придёт, – сидя в кресле, поджав под себя ноги и листая книжку. – Было мирно и тихо. Когда дверь открылась, она подняла глаза и улыбнулась. – Улыбнулся и он. – «Совсем как мать…»
Время подходило к полуночи.
Внуки и нестеклянный зверинец
Знали бы вы Алексея Аркадьевича, непотопляемого человека, – из лучших, кого знал я в этой жизни.
Время же, что шло вдоль, стало идти поперёк, – и Алексей Аркадьевич понял, что и он поперёк; на том и сошёлся с самим собой.
Как у некоторого человека, что ищет себя, – Алексей Аркадьевич себя не искал. – Поздно. Да, собственно, никогда идиотом и не был, ибо умел работать: мог дом построить, мог сена накосить, починить холодильник и договориться с землёй о будущем урожае. – А с такими данными идиотом стать сложно. – Это вам не те двоечники и лоботрясы, что в претензии определять жизнь, оценивать прекрасное и даже быть историками моды. – Это не умея-то построить дом, не держа молотка в руках, не вырывая колодца с живительной влагой, пригодной для утоления жажды. – Идиоты в потоке сознания, лоботрясы по природе, двоечники по разумению жизни. – Едят не свой хлеб и других приучают есть не свой. – А как же иначе? – Вместе весело шагать по просторам. – Особенно туда, куда нормальный человек и не пойдёт вовсе. – И думающие, что сейчас-таки и случится; что накормиться прям-таки можно со своей привязанности к неопределённому, к стороннему, к проигрышному. Знавал, собственно, я таких людей и, что самое главное, был вполне дружен с ними. Да, собственно, и сам, и сейчас, такой. Но подумайте, разве может так продолжаться? – Надо и о себе помыслить. – О душе, в конце концов, своей. – Ну, в самом деле, сколько же можно? И что дело-то? – Трепет один. Или как из одного рубля – эффективность – два сделать. – Стыдоба. И вот с такими-то людьми приходится жить, общаться и ещё даже понимать. – И это ещё при том, что, опять же, сам такой же… И как вы на это смотрите?.. И как я смотрю?.. И ничего не вижу… Не вижу. – И хоть режь меня, хоть ешь меня, – ничего не вижу. – Ничего человеческого. – Так-то вот…
Бедный, бедный Алексей Аркадьевич! И это после всего-то… И уподобиться-то не мог – поздно – как они: быть ничем из ничего (то есть собой) довольным. – Ни дом построить, ни колодец освежить. – Нет, всё-таки двоечники – по природе, а лоботрясы – по разумению жизни. – И даже белый вечер – не белый, даже Лёшкина любовь – не Лёшкина, а неизвестно что… Так-то вот.
В субботу дети уехали, оставив уже своих детей на попечение Алексея Аркадьевича. Он, опять же по случаю хорошей погоды, собрался выполнить давнее обещание – сводить внуков в зоопарк. Взяв одной рукой Костю, другой – Катю, вышел из дому в начинающийся сентябрьский день. Но пройдя всего лишь несколько шагов, детям захотелось на волю, и Алексей Аркадьевич принуждать их не стал, решив дать немного порезвиться в желтеющей и начинающей опадать листве.
Пока дети шуршали листьями, а Алексей Аркадьевич внимал их забавам, странный момент обнаружил себя. – В памяти, как перед глазами: потерявшийся во времени, тогда много старший, его товарищ; весна, когда вот-вот появился на свет их с Любой первенец, первое майское тепло и по этому случаю долго не расходящиеся по домам старшеклассники. – И, опустивши голову, слова:
– Нет у меня детей… А я уже внуков хочу… Детей своих я уже упустил…
И что-то нехорошее послышалось ему, что-то даже зловещее в этом воспоминании – странным образом единое с ясным небом и добрым расположением на весь последующий день.
– Вот и рефрен нашёлся… Сам собой…
В это время Катюша кинулась к нему, а за ней сорвался и Костя. – Алексей Аркадьевич поймал её на руки и поднял, а Костя повис на нём, вторя Катиному звонкому смеху.
– Ну, пошли, погодки мои. – Нас ждёт зверинец.
– Деда, а что такое погодки? – звонко отскочило от Катюши.
– А что такое зверинец, деда? – подхватил её Костя.
– Погодки – это Костя и Катя, которые не смогли быть друг без друга, поспешили друг за другом и появились у мамы с папой один за другим… А зверинец… – Это зоопарк…
Даже дети будут искать не своё место, а своё место в этой инсталляции, где – глядишь – в одном углу нагажено, во втором – наплёвано, а в туалете, как ни странно, чисто; и разве что помещён унитаз – и стульчак подковой – на счастье, видимо; и даже если это не унитаз вовсе, а белое фортепьяно. Такие времена, служба такая. – Добро пожаловать нога в ногу со временем… Этакий белоснежный и журчащий по-моцартовски; и полочка с Пушкиным и Достоевским рядом. – Всему найдётся место здесь, в безудержной возможности человеческого «креатива». И все пути открыты, и все возможности реализованы, ибо нет большего, нежели инсталляция; ибо только там хватит всего и на всех, если ничего нет… Добро пожаловать нога в ногу со временем. – Инсталляции создаются из ничего и только из ничего, но для этого – «ничего» ещё надо сделать. – И стульчак подковой на счастье, и томик Достоевского на нём. Так что если вы сидите играете или читаете… то поднимите глаза: возможно, вы на унитазе – и на вас смотрят и аплодируют… И поди, уговори, что всё это ни путём поступательного движения, что не сочетается отхожее с восходящим, ежели живёшь в таком сочетаемом. И не одичал ты в уме своём и жизни своей?.. так как дикое торжествует в диком.
Свет от огня, который горит, и огонь от света, который есть и вечен; чего стоишь ты, если свет твой от чего-то, ибо свет этот – порождение тьмы. – И так ты в мире, и рассудок твой – дитя страха… А Косте-то с Катей что делать, ежели родители-то их – даже не творцами, а лишь участниками всего этого? Косте-то с Катей что делать, ежели уготовано им нечто подобное и ежели родители их даже не участниками, а лишь наблюдателями всего этого?.. Косте-то с Катей что делать, ежели родители их даже и не наблюдателями, а просто – так получилось – соседями всего этого? и даже если родители их – в смирении вне меры…
В привычной мешанине Александровского парка реализовывал себя привычный малый Вавилон – человеческое приложение к происходящей и организующей себя действительности – с подземным выходом на поверхность из задуманной летающей тарелки, всем своим содержанием напоминающей казан – котёл, булькающий и пахнущий содержимым, – и с именем русской словесности в заглавии… И Боже мой! и небо становится ближе, и алмазы на нём каратистее, и зоопарк рядом… Бедный, бедный Алексей Аркадьевич – непотопляемый флагман на приколе постценностного времени, – флота постценностной державы. – Корень побед и мученик поражений – за тех, с кем был, и за то, что был с ними.
Катя увидела «лошадок», что грустно стояли на площади, и попросила покататься. Костя кататься отказался. Он лишь молча сопровождал сестру, неотступно следуя рядом.
Вскоре площадь осталась позади. – Исчезли её зазывалы и монстры; и только усиленный голос что-то вещал, обещая «массу удовольствий и верх наслаждений». – «А без людей здесь всё-таки лучше…» – отголоском настигло Алексея Аркадьевича давешнее слово.
Странно наблюдать, как истлевает жизнь – своя; и, что хуже, – дети вовлекаются в это самым непосредственным образом. Одни истлевают через низкое и мерзостное, а другие – через высокое и прекрасное… – Через бегемота, например… Но его-то и нет. – А это было бы предпочтительнее, дабы вечно инсталлирующая интеллигенция хоть во что-то упёрлась… Хотя и его, наверное, оприходуют, будто не для жизни созданы, а для вражьей забавы – изображать то, что бессмысленно и ненужно. – Как вычурная человеческая собачья порода с ожирением и вечной одышкой на куцых кривых ногах. – Куда такому жить, кроме как в забаве своего хозяина… А бегемота – попробуй столкни… И ведь столкнут, и превратят в ничто – в мертвяка для забавы; как и сами – под стать свою, неумелую до жизни… Этакий прогрессирующий душевный супрематизм. – Супрематизм духа с непреложным, «высоким», осквернением души, где схема предполагает всё, кроме правды. Порядочность, участие, дружба, вера, надежда, любовь, рождение, радость и смерть – всё обратится в предмет инсталляции со своим индексом, но, естественно, без своего содержания; ибо нет места в месте, если место опустело. – Но, может быть, они не лжи хотят, а просто правды не знают – в попытке обрести истину вне её и думая, что правда сложна?.. Полноте – зачем здесь истина? А о правде и говорить нечего. Кто же захочет начинать с азов? Высота обязывает быть выше… в происходящей борьбе за правоту и оправданность. А начинать-то надо, – и начинать с азов, то есть с правды, а не с правоты. – Правота ценностей не предполагает. – Её цель – превосходство и право в лицемерном подобии быть убежищем тому, кто не имеет никаких ценностей, кроме лжи. – Утверждаться в правоте и праве вне правды, выводя из правоты и права – оправдание и закон.
Дети бегали чуть поодаль – меж цветастых пёстрых лотков и развалов всякой всячины – от грустного до смешного.
«Если время диктует – значит, время вне правды. – Не его это телячье дело».
– Костя, Катя! – бегите сюда скорее. – Пора…
Ежели не удастся уподобить человека животному напрямую, то можно поступить иначе – уподобить животное человеку, хотя бы частично и аккуратно. В самом деле – очень даже гуманно и толерантненько. Скажете: ерунда. – Да нет… Всего лишь метафора с подозрением на диагноз, то есть как точка приложения лучших человеческих побуждений… дабы и тут подсидеть человека. – И, самое главное, проходит. По форме – игра на повышение… Но ведь игра… и даже уже не лицемерия. – Сестрица его готовится к выходу, дабы помочь своей родственнице (неопределённость среднего рода), ежели та не сможет действовать столь открыто, так как со времён Спасения – вроде бы – вне закона, ровно как и явное зло со времён Ноевых. – Всё так по-человечески… Ну в самом деле: какой же лицемер и обманщик, например, – актёр? – он играет роль. – Он профессионал и честный человек… Неведение лицемерно?.. А постановка – это игра, роли и… режиссёрские находки. – В общем, статусная вещь, искусство. А искусство в худшем случае вид человеческой деятельности; в лучшем – творческий дар, если хотите. И, что самое интересное, творческий дар лицемерным быть может, а вот род человеческой деятельности – нет. Профессионализм нелицемерен. – Профессионализм искренен… Вот такой вот Юрьев день. – И куда податься? В профессионалы? – В профессионалы… И будет игра почти по Станиславскому: честная, самоотверженная, искренняя, самозабвенная… И возможность жить по лжи, оставаясь при этом честным.
Вот такая она, сестрица. – В образе музы – не иначе; в образе ремесла – не меньше. – И налоги уплачены, и закон исполнен… И когда старшая сестра не в состоянии свалить человека, она зовёт вместо себя сестрицу среднюю; и та делает своё дело и валит всех скопом, – каждого по отдельности и всех скопом… технологично и продвинуто… Роли сильнее людей… И неведение нелицемерно?.. Это с каких, интересно, пор?..
– Какую сестрицу, деда? – вдруг послышался Катин голосок. – Он не заметил, как проговорился.
– Да так… есть тут одна… нехорошая тётя… – Бастинда. – Помнишь, мы читали. – Алексей Аркадьевич посмотрел на Катю и улыбнулся.
– А ещё Арахна есть! – подхватил Костя. – Большая.
– А ещё и Арахна есть. Но нам ведь не страшно? – уже засмеялся Алексей Аркадьевич. – Дети его поняли.
«Всё моё существо противно правде… Но правда выворачивает… И надо принимать лекарства, чтобы как-то жить… – Это искусство – жить по лжи, оставаясь при этом честным… Это высокое искусство – жить по лжи, живя плодами её, оставаясь при этом честным… Или, может быть, как неведение, – как двусмысленность и даже «высокая» неоднозначность, дабы быть разделённым и не устоять, оставаясь при этом цельным и честным. – Здесь простым лицемерием не обойдёшься. – Здесь нужна правда, ибо не ложь должна торжествовать, а правда должна быть обесценена. – Как диагноз, за которым следуют необратимые изменения и их неминуемое законное утверждение. – Закон всеяден, как всякая немощная вещь в реализации своего правдоподобия… Кто же не решается – переходит к неоднозначности, к «учёному незнанию» даже, – думая, что этим что-то поправил, – погружаясь в двусмысленность… Ложь неоднозначна и нуждается в приложении, а правда приложений не требует. – Так зачем тебе неоднозначность… Прими аксиомы, и будешь независим от теорем. – До аксиом не дорос – а за теоремы хватаешься… – Ты что, дурак?! – Куда ты лезешь?!.. Посмотри, что произойдёт…»
– Деда, а что произойдёт? – снова послышался Катин голос. – Но Алексей Аркадьевич уже не удивился этому.
– Всё хорошо, Катюша. – Сейчас пойдём зверушек смотреть.
Костя на этот раз промолчал.
Чем хороши вопросы риторические? – Тем, что они не требуют ответов и даже не предполагают их. – И именно – в утверждение.
Но пытливый человеческий ум, особливо с развитой, то есть обор-зевшей, рассудочной составляющей, почитает это за недостаток, даже за демагогию, порой не сознавая, что эти-то вопросы не просто мобилизуют целостное в безудержных стремлениях ума, но и расчищают пространство для живого, ставя барьер всякой мертвечине и потребляющему анализу в его насыщении. И ещё: попробуйте ответить на вопрос риторический противно направленности и воспримите – какая чушь получается. – Может быть, это и отрезвит? – чтобы вся эта «благородная» эмфизема сдулась, а мозги, вдруг превратившиеся в челюсти и выполняющие, собственно, ту же функцию – пережёвывания пищи, – встали на положенное им место. Но так как полноценную замену хлебу насущному и над-сущному найти не удаётся (и не удастся – можете не сомневаться), то прилагается жвачка, и даже с различными вкусами – чтобы не надоело; естественно, имитирующая – но ведь не для жизни и делается. – Дабы жить по лжи и оставаться кристально честным, или, если хотите, жить мертвецом. – Это очень, скажу вам, выгодно, хотя – не спорю – нехорошо.
Здесь же, памятуя о вышеизложенном, следует предположить ещё один Катин вопрос: что нехорошо, деда? – Но пусть вопрос этот останется пока условным, то есть в плане действия… – Но – свидетельствуя всяческое уважение к Катюше – это вопрос её…
Когда бы можно было относиться к детям своим, как к внукам, – с последним непреходящим словом и держа ответ пред вечностью, и ставя, в общем-то, пред ними и пред собой вопросы равные, и отвечая на них – Бог даст – вместе, – то, кажется, исчез бы этот провал, закрепляющий склонность и усугубляющий расположенность ко греху. И в этом-то малом, житейском вроде бы действии время опять выступает в ущемление человека, подставляя его под удар павшей его природы и закрепляя эту составляющую в человеческом самоопределении, ежели самоопределение это – цель. В противном же случае – время затихает. Время готово уступить и отступить – человек отступить не готов. – И проступает подмена, и время «играет не по правилам», – играет «против», вынужденно, кажется, принимая то, на что не способно: быть духом в букве. И остаётся тешить себя попыткой сдать экзамен на человеческий минимум вне этого провала, когда время – друг. – Или, паче того, утверждать себя дитём своего времени, утверждаясь в родстве с тем, что родным быть не может по определению, ибо «слишком смахивает на смерть»… Но это ещё полбеды. – Беда в том, что ты становишься пасынком, презрев сыновство, иль без родства вовсе. Так что тебе твоё время, ежели время – чужое? Ежели история – в малом и большом – как память об утраченной, но всё же доступной истине, которая возможна и доступна, но недоступна и невозможна… Возможна и доступна в принципе – в вечности, но недоступна и невозможна в частности – во времени…
Так что этот вопрос её. – Катюшин вопрос…
Их встретил шум крестьянского подворья – суматошный и безалаберный – в смешении всяческой домашней живности, соперничестве за место под солнцем и непременной уживчивости всего и вся – для вещей устоявшихся, домовитых и безусловных. Это задало направление, и внуки потянули Алексея Аркадьевича в сторону этой «деревенской действительности», смоделированной и узнаваемой, будто на картинке, – обращённой по задумке более к страждущей душе – этаким аттракционом для неё – нежели к необходимости и жизни. – Но всё равно приятно. И, может быть, потому было что-то трогательное в этом, игрушечное и милое, – вдруг найденное и вот-вот, казалось, заново обретённое – хотя и без продолжения…
«А детям, наверное, хорошо. – Они ещё ничего не знают… А вопросы-то одни и те же… В конце концов – не пятилетние же птахи всё это делали… – Игрушки всякие – пупсиков там разных, машинки с доспехами… Для приготовления иль для подмены… Для радости и назидания – безусловного и живого… И что говорить о тех, кто избрал для себя призванием изображение выродков – повсеместно и убеждённо – присовокупивших себя действительности и со следами глубокого потребления на лице. – Чушь стеклярусную, претендующую на жемчужность. – Да так, чтобы ещё можно было, смотря на всё это, испытывать вроде как подъём, заменяя живое – прогрессивным, а мёртвое – насущным. И тут же – в прозрачных комнатах – всяческая дикая живность с отсутствием в глазах и странной очевидностью на обречённую безучастность… Костя, Катюша, вы посмотрите на них: на глаза их, на взгляд их. – Они же все ждут – и хищные, и свирепые, и слабые, и малые; и не от нас – безнадёжно, мимо. И не любят… Не любят. Терпят. – Им бы от нас подальше, а они вынуждены, чуя смерть в повседневности и непременности, в сытости и напрасности, без возможности и присущих именно им надежд. – Всё же живая душа… Живая… Как же отнять у Катюши эту радость? – Для неё – радость, для меня – назидание… Или, может быть, для неё – радость и всё же назидание? А мне – назидание, но и, пусть уж, радость… Вот и ответы не такие разные. – Это и её, Катюшин, ответ. – Хотя бы для того, чтобы, глядя в глаза, осознать, как это всё и вся болит за нас. И чего-то ждёт – от тех, от кого и ждать-то нечего… Они же ничем не виноваты, а мы пытаемся их ещё дотянуть до себя. – Невелика награда, прямо скажем, – будто калек мало. Они хоть вопросами и не задаются, но в правде-то им не откажешь. – Им ещё уподобления нашего не хватало… Где ж ты, Катина радость? – Это и её – Катин вопрос…»
Из ворот выбежал козлёнок. Постоял, осмотрелся и поскакал по двору; запрыгнул на стоящий возле стены ящик и там замер, думая, видимо, чем бы ещё удивить – и себя, и окружающих. Но выбор был невелик, и он не нашёл ничего лучшего, как спрыгнуть и пойти на второй круг, проделав всё то же самое. Костя с Катей сопровождали его в этом нехитром действии, неосознанно вовлекая и Алексея Аркадьевича в эту забаву. – И Алексей Аркадьевич необходимо отвлекался, чувствуя рядом два маленьких, радостно бьющихся тёплых сердца, – Катин голосок и уже «по-мужски сдержанные» восклицания Кости. «Ещё живой, – вторилось ему. – Я против того, чтобы живое становилось мёртвым, даже если это мёртвое – живое».
«Так что пусть человек уж лучше заблуждается, нежели имеет своё собственное мнение. Заблуждение от дурости: от той глупости, которая не то чтоб в неразвитости ума, а в упорном желании во что бы то ни стало быть на том месте, на котором находишься, но которое не совсем твоё. – Без последствий и двигаясь вперёд. К мнению же присовокупляется гордость, а гордость пренебрегает любовью – по-разному, но верно. – И всё – одно. И в этом его беспомощность, так как только беспомощность может уничтожать; и уничтожать, отвоёвывая себе жизненное пространство, чтобы потребить. Освобождается огромное поле для дискуссий – поле войны всех против всех и посвящения человека себе самому… А что ему ещё остаётся – на пене взращённому и пеной вскормленному, будто прокисло материнское молоко? – И беда повседневна и незаметна. И глядишь – друг о друге надорвались…»
Чуть в стороне топтался на одном месте воронёнок – этакий вольный слушатель сего заведения, не приписанный ни к какому участку, свободного посещения и выбора поступать так, как сочтёт нужным. Когда они обратились и пошли в его сторону, воронёнок запрыгал навстречу, будто вовсе и не птица, а вполне щенок или котёнок. Приблизившись, он остановился совсем у их ног и стал ждать почти на равных. Катя и Костя не отрываясь смотрели на него. – Да и Алексей Аркадьевич, признаться, был несколько удивлён необычным действием. Катя щёлкнула в кармане припасённой печенинкой и отдала её с руки.
– Деда, пойдём к Варваре.
– Пойдём. А кто такая Варвара?
– Это медведица, которая всех любит, потому что она старенькая и ей уже ничего не нужно, и она уже любит всех и всех понимает.
Алексей Аркадьевич молча кивнул Катюше. Он вдруг вспомнил, что был здесь без малого сорок лет назад, а значит, вроде бы в другой жизни, – ещё полный сил и стремлений, когда животных было принято любить, не уравнивая их правами с человеком и не подводя под это юридической базы. – Не по закону, а по милости, – пусть по её остаткам, но всё же по существу. Он даже представил, глядя на Костю и Катюшу, как это они будут жить в общности, где люди и звери будут обладать равными возможностями и правами, и удивился столь «бойкой прыти своего ума», пусть и в отрицающей форме, но даже здесь пытающегося выдавить человеческое, омертвить и обезблагодатить всё сущее, с чем вынужден сталкиваться. – «Вот ведь штука какая. Вот ведь незадача! Вот ведь время идёт!.. А когда человек идёт в ногу с ним, он погибает, так как идёт «от». Но пусть я лучше буду дитём своего времени, нежели времени чужого и чуждого, так как время это – моё, а чужое – просто время… Оно даже не дитя вечности. – И даже «дитём своего времени» можно быть, только возвращаясь… И возвращаясь хотя бы к себе, а не просто назад. – Хотя бы к себе, а уж там – как получится… Время жестоко, но честно, – как беговая дорожка. А я за единство и преумножение, а не перетекание одного в другое и ущерб, где одно за счёт другого и утрата за счёт приобретения. За то, где возрастание и возвращение – одно по определению… Иначе «время рождает сочинителей» и обращается в мусорный ветер. – И относительность его – к природе, а не к личности, – то есть с точностью до наоборот… Нет, в ногу с ним идти – сопли размазывать и время зря терять. Даже споткнуться не сможешь. – Снесёт… А что до животных… Тщетно, конечно, но примечательно. – В конце концов, не для животных и делается, а человеку в убыток».
Он подумал, что так и не получилось побывать здесь со своими детьми. – Мимо прошло. Спасибо жене, что не позволила лишить их этого удовольствия. Подумалось ему это просто, без какого-то даже сожаления: всё было, и зоопарк был. – Его не было, а всё остальное дала им Люба. Наверное, это по её части и здесь она способнее. – И хорошо, что так… – «И всё-таки жаль, что кончилось лето…»[1]
Костя с Катей шли чуть впереди, подбегая к клеткам и вольерам. Он следовал за ними, будучи ведомым у этих двух птенцов, выпущенных на свободу, дабы вернулось ему то, что вот-вот было утрачено. И подступившее вдруг перехватило дыхание, бросилось к глазам и осталось там уже, казалось, навсегда. Но это было лишь в приближении. – Время вернуло его, но вернуло уже другим, повзрослевшим на вечность, – в очередной и, может быть, не последний раз. И эти два птенца, вдруг появившиеся на свет, делающие первые шаги и становящиеся на крыло, – как соработничество с Богом, симфония воли, где милостью Его малая воля человека отдана ему в приоритет… И где-то рядом подступающее предательство – дабы остаться без промысла Божьего, без радости быть у Бога при деле, в неведении и наступающей лжи. – В вырождение, – вне целостности и цельности целого, – вне брака. А что вне брака – то ложь.
«Вещи условные – как мнения: лишь обозначают себя и не свидетельствуют ни о чём. Они хоть заключены в свои рамки, но пытаются и претендуют на нечто большее. Вещи же безусловные хоть и существуют вроде бы в своих рамках, за эти рамки не выходят и являются свидетелями. – И для начала – свидетелями самоё себя. Было бы возможно этим господам, то они бы и вовсе отменили детей и их безусловность. Но «общество нуждается в новых потребителях», а посему и обращается всё в соответствующее русло. – Нельзя упразднить – надо подменить. И пожалуйте – не более и не менее. – Вот вам и «более-менее» – где скорее «менее», нежели «более». – В общем, не мытьём, так катаньем. – Чтобы быть не при деле, а в делах условных… А всё от беспомощности. Только беспомощность может уничтожать, потребляя… Но попробуй выйди. – Дали говорить – и бери их тёпленькими. Дети же не потребителями рождаются – вот какая неприятность. – То-то они переживают – и нас туда же… Потребитель беспомощен по определению… Не мытьём, так катаньем. – Через расширение возможностей и их невозможность; через невозможность им не расширяться. – И попробуй вывернись. – Дали вывернуться – и бери их тёпленькими. – И всё – туда же. Тоже мне, бином Ньютона. – Надо же на кого-то взвалить, а обожравшимся – сблёвывать. – Где нужно, как нужно и чем нужно, – в общем, цивилизованно…

