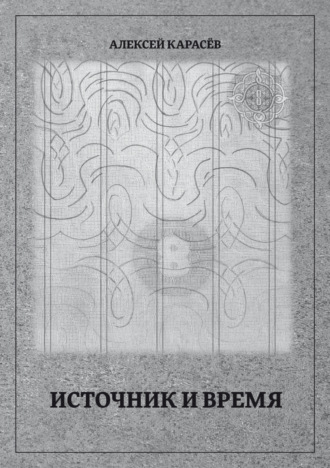
Полная версия
Источник и время
В конце концов, истина человеку дана – её выдумывать не надо. Вопрос в том, как совместить человека с этой истиной… пока человек не вознамерился совместить её с собой… Или, как некогда сказанное и услышанное: сын, всё моё – твоё… – Всё твоё – моё?.. – Нет, всё моё – твоё…
Наверное, со стороны могло показаться, что они находились в состоянии некоторого душевного дрейфа, что ли, или даже, может быть, в соответствующем этому состоянии духа. – Но это не совсем так. С другой стороны, нельзя сказать, что здесь совершенно не было людей. Так или иначе, следы пребывания человека здесь наблюдались, но они были «частью без претензий»: немногочисленны не только по количеству – что понятно, – но и по качеству. И всё же Чипизубов был вынужден констатировать:
– Завтра уже можно будет более предметно наблюдать, как нарастает хаос запустения от увеличивающегося присутствия человеческой воли. – Пока ещё не очень, местами и не так явно. Но ведь это – с чем сравнивать и пока. Земля проклята в делах человеческих, как, наверное, и человек в собственной истории, – и ничего поделать с этим нельзя. – Паче потому, что ложь давит изнутри, а не откуда-то там снаружи, понуждая сокрушаться, а не просто морщить нос. – Сблёвывать, а не уходить, – Чипизубов улыбнулся. – Женщины, наверное, понимают это лучше… – Ежели понимают…
Если вам предложат побывать в низовьях Тунгуски – соглашайтесь. Кажется, ничего более обоснованного вы никогда не увидите. Ничего более обоснованного не представится вам в этой жизни. И пусть даже вам не повезло со временем, и время ушло, и вы опоздали, и… тем не менее… И даже если ваше на поверку блудливое трезвомысляще-потребляющее существо попытается что-то говорить – не верьте ему и молчите. Не верьте – это всё пустое. В противном случае у вас будет лишь удовлетворение потребностей: этакое удовольствие, условно-досрочное освобождение воли…
Здесь же потребностей нет. Вы даже об этом и не подумаете. Но только если вы, конечно, непотребливы по жизни своей. Иначе – не будет вам места здесь. Вы просто не найдёте его. Вы чужой, и вы канете – в этом междуречье, в этом центре тяжести, – благо здесь есть куда кануть. Даже не надейтесь – не ваше это место… Так вы и кончитесь – умрёте. – И умерев, исчезнете без вести, даже если и имеете кое-что за душой, даже если тело ваше найдут… Не ваше это место, как ни старайтесь. Вы умрёте неизбежно и неколебимо, определённо и… необходимо… Здесь живут только добрые люди… И в таком случае – мы все пропали… И всё же… – постарайтесь не понять. Всеми силами души своей – постарайтесь… – А вдруг у вас тоже не получится. – И умрёте, и не имеете права к жизни, дабы видом своим не обезобразить всё, дабы краснеть не пришлось за вас… И это тоже война…
Когда молчащие воды вновь приняли их, и, преодолев каньон, поток набрал ширину, обрёл перспективу и рассредоточил восприимчивое к звукам пространство, дело уже шло к вечеру. Сторонний зверь, вышедший на берег, провожал взглядом далёкую точку, втягивая носом воздух и пытаясь определить характер сопричастной удаляющейся жизни. Пролетающая птица брала их сторону; делала пологий разворот, оценивала обстановку и летела далее, перемещая образ выше и перенося его вглубь прилегающей тайги.
Порыв ответного ветра ударил в нос лодки, упредив переходящее время и мягко отдавшись в людские тела. Чипизубов обернулся вперёд, а Осмоловский положил вёсла на воду. Так они просуществовали с минуту, а через полчаса уже были на берегу.
2На следующий день Осмоловскому показалось, что содержание мал-помалу переходит в больничный приёмный покой, с этаким особым, характерным ощущением чего-то: будто немощь позарилась иль слабительного принял не по делу. Вроде и пространство не особо изменилось, хотя и изменилось, но не так чтобы указующе. И воздух, его наполняющий, не сделался более спёртым. И невозможно было сказать, что плоды цивилизации прям-таки обозначили себя. Но Осмоловскому представилось, что ещё тогда, в те давние времена, нечто подобное уже присутствовало; и именно это побудило давешних людей утвердиться здесь. – «Хотя они, наверное, были и менее испорчены. Но математик без пренебрежения к себе самому – это большая опасность для общества… Но я же всё-таки прикладной и уже не математик».
Ежели доводилось вам сидеть у постели умирающего, то, может быть, ощущали вы странную неуместность своего пребывания, своих кажущихся забот и попечений. И попытка какого-то действенного участия вдруг натыкается на почти гоголевское: оставьте меня… зачем вы меня обижаете… Имейте хоть каплю уважения, неужели вы не видите ничего вокруг?
Так умирающая птица вдруг распускает крылья – в последнем совместном акте души и тела, в едином, обоюдном согласном стремлении последних мгновений неразделённой жизни, где ещё миг – и крылья сложены. И цели у души и тела одни: взлететь и не оставить ничего, кроме правды. И кто из вас умер, и где здесь горькое лекарство, и кому его пить? И тело остаётся лежать, и миг ранее ещё здесь, и не осталось ничего, кроме правды. И адвокаты не у неё, а у вас… Или вы видите эту правду и она вас не отвергла?
3К четырём часам пополудни товарищи пристали к берегу, сложили лодку и поднялись по крутому деревянному трапу. Вдоль обрывистого берега шла дорога, и, пройдя по ней вдоль деревянных рубленых домов, путники свернули в проулок и направились вглубь. Через несколько минут они уже были на месте, ступив в пределы довольно обширного подворья, в глубине которого возился хозяин. Заметив гостей, он отставил своё занятие и двинулся к ним, попутно улыбаясь и приветливо образуясь во времени.
Необходимо было передать лодку, дабы с оказией заложить её на прежнее место; и здесь с хозяином имелась договорённость.
– Витя собирался вверх. Доставит.
Григорий Елисеевич Сотников был человеком примечательным. Сын его, Виктор, служил учителем в местной школе, а сам Григорий Елисеевич содержал на втором ярусе домашнюю обсерваторию, и не просто так – на звёзды посмотреть, – а с продолжением «об устройстве мира и его развитии». – «Хобби у меня такое, раз уж живу. Хотя, конечно, и не без потерь. – Каюсь, грешен», – говаривал он подходящему собеседнику. Жена его, уроженка из местных, принесла ему троих сыновей, но здесь остался только младший, что «вот-вот оженился и, Бог даст, здесь и осядет, – не без удовольствия отмечал Григорий Елисеевич. – Жену местную взял, и это обнадёживает».
– А он не математик случайно? – поинтересовался Осмоловский.
– Нет, скорее историк, – улыбнулся Григорий Елисеевич.
Сотников пригласил было их в дом, но Чипизубов, сославшись на обстоятельства, предложил перенести «на попозже». С тем и разошлись.
Всю дальнейшую дорогу мысли Осмоловского крутились где-то рядом с вышеозвученным «скорее историк», и добродушная улыбка Сотникова вдруг коснулась и его губ. А тут ещё этот «скорее историк» вышел навстречу с ватагой ребят. И уже после короткого приветствия и пары добрососедских фраз за жизнь Осмоловский, глядя вслед удаляющимся, про себя всё же отметил: «а вот я, наверное, даже сейчас пошёл бы в математики. Но это по обязанности. А «скорее историк» – это вроде как само собой разумеющееся, а потому безусловное, как бы это, на первый взгляд, ни показалось странным».
На возвышенных приполярных широтах солнце, кажется, угнетается не только своим положением относительно горизонта, но и каким-то созвучным, молчаливым согласием. – Так что было бы прям-таки нелепо, ежели было бы как-то иначе. В этой симфонии силы и немочи угадывается неведомый человеческому существу промысел, заставляющий подниматься и смотреть, подниматься и слушать, дабы, ослепнув и оглохнув – скорее от отсутствия, нежели от изобилия, – вплотную подойти к избытку. – Имея, а не пытаясь иметь, вкушая, а не стремясь ко вкусу; слышать не вслушиваясь, видеть не всматриваясь, и выражать собой всю полноту слова, ничего при этом не говоря… – И приблизившись, вновь рухнуть и возжелать тёплого солнечного света, тёплой родной земли, уютного крова и приятельского человеческого общения; и испытывать потребность в близких, и печалиться, когда ничего этого нет, когда недостаёт тепла, когда нет рядом любимого человека. – И утешаться мыслью о нём, и иметь, не имея, и умиляться в потребности. – И потянет в тёплые края, так как там всё это ближе и доступнее. Но и там есть, где спрятаться. – В пустыне. – Будто от теплового удара спасает только изнуряющая жара.
Кажется, что не может быть у солдата на поле брани друга не солдата. На поле брани друг не солдат – балласт. Это горько, но это, похоже, та правда, что позволяет держаться и побеждать. Отсюда и дистанция, и уединение. И это от жизни. По крайней мере, так кажется, ибо тогда каков же смысл победы и каково единение?
Чипизубову было одиннадцать, когда началась война. И уже в столь зрелом возрасте он всё больше сопрягался с мыслью, что новое – это хорошо испорченное старое. Всё чаще на память приходил образ учителя – на самой восходящей заре жизни, – что совершенно обыкновенным делом мог взять тебя за ухо и отвести в сторону.
И оставить там за неуместно вылетевшее слово – в вопиющем одиночестве, пусть даже и у всех на виду. – В оглушительной пустоте, звенящей и доходчивой, без права двинуться с места и как-то обозначить себя.
Потом, несколько позже, уже во времена студенческой юности, он познакомился с одним человеком – Петром Козачевым, – который, впрочем, и остался «одним человеком» на всю последующую жизнь. – По форме и обособленности, и по особому свойству памяти, что выделяет всё, не спрашивая и не оценивая ничего.
Пётр был старше, но не так чтобы очень, а, скорее, ровесник поопытней. В общем, – почти как в песне, – «не на отчество постарше, но на войну помоложе».
Вспомнилось, как судорожно вышагивал он по комнате – взад-вперёд, взад-вперёд, периодически будто выкладывая слово на руки; смотрел на него, прикидывал на вес, пробовал на жёсткость. После прикладывал руки к голове, будто возвращая обратно, и снова ходил взад-вперёд. Стрелки часов отсчитывали ночные часы, за окном намечался рассвет. Он усаживался за стол, снова выкатывал слово, снова прикидывал и сжимал, клал на крышку стола, опускал руки, уставясь вперёд, что-то складывая и вычитая. Опять брал в руки, прикладывал к голове, продолжая сидеть уже почти неподвижно. Брал папиросу, курил, гася подступившее и не отступающее беспокойство. Брал чайник и выходил в коридор, возвращался с кипятком и заваривал чай. Наполнив кружку, прихлёбывал и стоял над столом, уставясь в его крышку. Снова отхлёбывал, ставил на стол и снова ходил – взад-вперёд, взад-вперёд.
Наступало утро, и Чипизубов заставал его дремавшим – за столом или на шконке, поверх покрывала. – Будил, и они вместе собирались и уходили в прохладную свежесть. Утренний седой Ленинград, Исаакий и Медный всадник, Нева и глыба Горного института привязывали их к месту, и Чипизубову было непонятно, поддалось ли слово, допустило ли человека, одарило его или отняло, благословило или отторгло.
Вспоминая Петра, Чипизубов всегда ощущал своё сердце – будто это сжатие оттуда, из теснин долгой, но такой короткой человеческой памяти. И уже вся последующая жизнь была вроде как продолжением тех дней и ночей.
…И следующий день и следующая ночь. И ничто уже, казалось, не могло спасти его от этого сна. Что-то стонало. Это шаги. Он лежит, и он знает, что лежит там, где лёг. И поэтому это уже не сон. Вот он десять минут как лёг. И вот прошло десять минут, и он так же лежит. Но всё обращается в какое-то скручивание пространства – будто в попытке отжать, выжать. И он вроде просыпается и всё так же лежит. – «Значит, это не сон? Да какой сон?! О каком сне идёт речь?!» И страшно, и не сон. И ужас подступает со стен и входит в тело, – и страх, и трепет. А он встаёт. Взлети! – это не приказ, это само собой. – Страшно. Свет, никак не утверждаясь: свет – тьма, свет – тьма… Надо зажечь свет. – Он тянется к выключателю. Свет трещит, коробит и светит мерцающей трескотнёй. – Нет возврата, нет выхода. – «Наверное, уже седой…» Но рядом, здесь, Пётр. Он снова ходит взад-вперёд, снова будто выкладывает слово на руки, взвешивает и сжимает; и оно отзывается. И вновь он наливает чай, и вновь комната наполняется табачным дымом. И вновь он выкатывает на горячие ладони камень, и слышится далёкое пение. – Не отсюда… И сквозь камень проступает клокотание живого, тёплого, что перетекает сердцем, возвращая и отдавая. И он садится и наблюдает, как исторгается светящийся воск, тёплый и до неузнаваемости живой… А потом снова утренний седой город, Сенатская и одинокий всадник, небо и купол Исаакиевского собора, Нева и Горный институт…
Пётр пришёл с войны и к войне ему не привыкать. Ещё совсем мальчишкой очутился он на фронте. – Он видел победу, и она брызнула двумя красными каплями-звёздочками на его гимнастёрку, рассыпаясь на блёстки и играя в лучах майского солнца и пасхальной – трудной, но такой лёгкой, ещё совсем мальчишеской, но уже и мужественной, – радости. И юный ветеран, вернувшийся с той войны на другую, о которой он ещё ничего не знал, – невидимую и тогда ещё неведомую. – Уже будучи победителем, хотя, возможно, и не совсем осознавая это.
Что победа без беды? – удача, везение – дармовщина на потребителя. А то, что потребляет, то не победит…
Впереди открывался Енисей, и Чипизубов устремил взгляд туда, в обширное слияние двух потоков воды, целенаправленных и, казалось, вершащих всю здешнюю историю. – Откуда ты вышел и куда пришёл?..
Будучи учёным-практиком, довелось ему участвовать в одном международном мероприятии по, как это водится, определённым, требующим обсуждения и обмена мнениями вопросам, в детальность которых по истечении долгого времени вникать и не стоит, тем более что и не в этом дело.
После одного из нескольких дней работы собралась группа «по теме», дабы продолжить общение в неформальной обстановке и в более свободном и открытом режиме обсуждения. И слово за слово – дело перешло на «прикладные темы и уж совсем общие вопросы» с идеологической – как сказали бы тогда – и даже мировоззренческой составляющей, «в парадигме: два мира – два образа жизни». И Чипизубов, на чьё-то высказывание по поводу «прав и свобод», совершенно невозмутимым образом определил, что кто ж это говорит о человеколюбии-то? – Та лучшая часть цивилизации, которая уничтожила население целого континента, а население другого превратило в рабов по определению, с отторжением от собственной земли и собственного истока, дабы «побольше жрать и поменьше работать» – то есть потреблять? Или та лучшая часть цивилизации, на счету которой первое и единственное применение ядерного оружия? Или та лучшая часть цивилизации, которая является колыбелью фашизма – со всеми вытекающими отсюда последствиями? – Подобные достижения никому и не снились, и что с такой дурной наследственностью – по определению – надо бы вообще помалкивать, так как вряд ли здесь может получиться что-то здоровое и даже живое.
Всё, может быть, на том и закончилось бы, тем более что обстановка была неформальная, даже приватная, – постепенно затухло бы и обернулось ничем, но Чипизубов, дабы прекратить этот «вербально-социологический понос и всё встало на свои места», подошёл к оппоненту, взял его за ухо и отвёл в сторону, в угол, – там и оставил. Получилось это у него на удивление гладко, и когда наступившее молчание прервалось, образовался небольшой скандал, который, впрочем, быстро замяли, поскольку, опять же, «всё было приватно и в узком кругу». Чипизубова, понятно, пожурили, но это было, что называется, взыскание сквозь признание. Но всё-таки пресекли: как бы чего не вышло. В общем, оргвыводы сделали и протокол соблюли.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
«…всё-таки жаль, что кончилось лето…» – строка из песни Юрия Кукина «А всё-таки жаль».
2
Той памяти сердца, что сильней рассудка памяти печальной. – Имеется в виду стихотворение К. Н. Батюшкова «Мой гений» (1815).
3
под седлом, в узде, но без него… – из песни В. С. Высоцкого «Бег иноходца».

