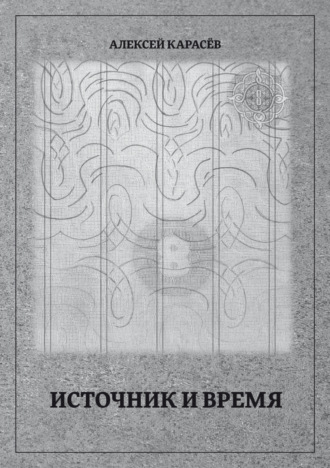
Полная версия
Источник и время
Среди пустых лесов, не обременённых сознательной человеческой породой, недалеко от скалистых берегов и тихой воды, берущей начало в глубинах континента, находился участок земли, малодоступный и замечательный своей обособленностью от остального пространства суши. То ли пути туда вели не те, то ли был он не занимателен разным практическим интересам, но просуществовал в покое долгое время, так и не отдав своего существа на потребу вездесущей земной публике, рыщущей в поисках удовлетворения по всем, даже, казалось бы, самым непригодным для того, местам.
Ежели взять на северо-запад, то через несколько дней пути можно выйти к большой воде и там уже, встретившись с редким человеком, расспросить о делах света, насчёт которых, впрочем, человек будет иметь нечёткое представление, будучи наслышан либо краем уха, либо отголоском эфемерных радиоволн, занимающих его, в силу своей непрактичности, очень и очень мало. Ежели будет ещё интерес, то можно под настроение справиться вниз по реке и в небольшом отдалении прибыть в некий населённый пункт, – попытать чего-нибудь там, существенного и не особенно, не принуждая себя к большим откровениям, а скорее для разнообразия и безобидной весёлости увидеть и ощутить ещё что-то близкое душе, дабы с Божией помощью излечиться от возможного уныния и терзающего действия человеческой природы. Разнообразив таким образом своё житьё, избежав навязчивых публичных мотивов, лишь прикоснувшись к ним как к необходимой доле человеческого существования, взять обратную дорогу со своим приветливым попутчиком, чтобы после, уже расставшись с ним, продолжить путь одному, без глаз и суетного ненужного толка. И через несколько дней молчаливого похода средь вторящих и слушающих деревьев, мхов, рождающихся и набирающих силу ручьёв и речек, близкого и отдалённого шуршания различной живущей твари, вступить наконец на землю, что способна отпустить все тяжбы и придать всему единственный благотворящий смысл.
У человека был интерес в этом негромком деле.
Придя сюда несколько времени назад и осмотрев окрестности, он открыл маленькую речку, которую можно даже перешагнуть, и немое пространство с живым организмом тайги. Чуть в стороне на поверхность выходил источник.
Больше он никуда не собирался, устроил себе жилище и остался здесь.
Так проходило время. За редкими своими отлучками он видел ряд последовательных событий, выражавшийся наиболее явно в смене поколений. Отцов сменили сыновья, сыновей – их сыновья, а тех, в свою очередь, их дети. Всё это казалось обычным делом. Но река так же несла воды, струился из глубин источник и всё так же лежал в безмолвии Летний Камень.
Он смотрел в сумеречное пространство – туда, где навеки было впаяно массивное каменное тело. Темневшее небо, выведенное пурпуром и какой-то космической чёрной синевой, нависло над погружающейся во мрак землёй и выдавало бездонность окружающего мира: будто ничего и не было больше – ни сейчас, ни до, ни после…
Сегодня он остался, приготовив ночлег на берегу, и долго ещё всматривался в темноту, где угадывалась вся существующая беспредельность.
Что происходит, когда не в силах человек больше справиться с подступающей к нему энергией? Не в состоянии он больше находить ей надлежащее место и трансформировать её в существе своём, придавая способный вид всему сущему своему окружению. Это ли слабость, когда при всём своём потенциале опускает он безысходно руки свои и отступает, пятится перед тем, что принадлежит ему, что обречено быть его по рождению и неведомо откуда взявшемуся предписанию? Разве не легче отвоёвывать каждодневно себе крохи, большие или малые, и считать, что всему основой – труд делать из ничего нечто? Или всё же, уже имея, попытаться поднять себя и вместить всё имеющееся, обратить в последовательность неизвестно откуда подступившую долю, рискуя, быть может, не справиться и потеряться окончательно. – Быть похороненным под неведомым материалом, не сумев организоваться и принять это как должное. Или, может быть, легче скрыться, убежать в жуткой боязни даже оглянуться, рискуя всё же быть настигнутым и раздавленным тяжестью неизвестно за какие заслуги возложенной на тебя ноши. И что проку отдавать отчёт в том или в этом, раз так безысходно и безначально всё происходящее. И выбор-то у тебя невелик, и при всём богатстве ты нищ, и при всей силе – слаб, ибо твоё родное треножит и сковывает тебя, оставляя, казалось бы, слабую надежду на преодоление. – На возможность обратить балласт давящей массы в свою противоположность, способную подобно горючему веществу оторвать тебя от земли, дать силы и умение жить – забыть, что ещё вчера ты так был близок к концу, к смерти; а может, к чему-то и несоизмеримо более страшному, по сравнению с чем даже смерть показалась бы благом, если она просто смерть, а не смерть от отчаяния.
Но что, если убежать всё же вышло?
Источник иссяк. Несколько дней он ещё напоминал о себе слабыми всплесками потаённой силы земных недр, но человеку казалось, что всё произошло в одночасье. – Было и исчезло, забрав с собой не только чудную влагу, но и след, оставляемый от долгого пребывания в земной жизни. Казалось, вечность иссякла, как обыденная насущная вещь, со странностью отменив все предыдущие устремления и порядки, целый комплекс сложившихся потребностей и привычек, заставляя усомниться в насиженном месте и обоснованности своего здешнего существования. Да и как же быть, если столь долгие годы, припадая к воде, не представлял, что может быть иначе, не видел возможности чего-то иного, принимая происходящее как естественную данность и принимая за откровение подчас лишь производные; ценя, на самом деле, лишь уходящее и понимая цену лишь после. – Так получается.
Осознавая исчерпаемость, он никак, казалось, не мог взять в толк, что всё имеет предел, и этот предел наступил.
Сквозь сомкнутые веки проступил свет, и сознание пошло набирать силу, отвоёвывая у темноты очередные участки. Процесс развивался быстро и занял в открытой форме не более минуты; после реальность предстала основательно и чётко, как в минуты обычного пробуждения. Слабость не выходила за допустимые рамки. Первое, что он ощутил, был некрашеный деревянный потолок с хвойным рисунком и негромкая человеческая речь. Вторым моментом он увидел людей. Один из присутствующих подошёл к нему и произнёс:
– Здравствуйте, Всеволод Сергеевич… Меня зовут Боян… Возвращайтесь… Мы вас оставим.
Всеволод Сергеевич остался один. Он посмотрел в потолок и сделал нейтральную попытку собраться с мыслями. Потом встал, оделся, прошёлся по комнате, бегло осмотрев убранство, и вышел в соседнюю, которая оказалась даже не комнатой, а почти сенями. У окна помещался стол, и за ним продолжалось прерванное чаепитие. Помимо Бояна присутствовали Чипизубов, Стоянов и некто Осмоловский, человек незнакомый и не значимый в списках живущих. Пили чай и тихо о чём-то говорили, чередуя слова и содержимое кружек.
– Присаживайтесь, Всеволод Сергеевич, – произнёс Генчев.
Сквозь окно доносился лесной шум. Шла вторая половина дня, ближе к вечеру, – часов пять. Солнце светило полого, и лучи его были уже мягкими. Выйдя за окно, взгляд Бурова попал в заросли кипрея и пижмы – и далее – в лесной шелест, спровоцированный порывом лёгкого тёплого ветра.
Буров устроился за столом, где ему уже был приготовлен чай. Пряный запах чая подчёркивал впечатление.
Казалось, что прошли времена, когда за каждым моментом присутствовал тайный или явный смысл, манящий или наоборот – усмиряющий; но именно это не требовало поиска оснований и составляло жизнь в её инвариантности и ощущении сладкого томящего вкуса. Стены были невидимы, и можно было проходить сквозь них даже не замечая. Иной жизни и не было. То было пребывание в насыщенном растворе познания, из которого ещё не начало выкристаллизовываться мёртвое вещество определений.
Буров поблуждал немного в мысленном пространстве, осторожно ощупывая подступающие образы. В то же время Чипизубов подлил себе чаю и закурил, наполнив комнату сизой дымкой, которая, увлекаемая воздушными потоками, струилась в открытое оконное отверстие и там уже уносилась дальше, теряя свой неповторимый рисунок.
Ненавязчивая рефлексия, что на короткое время отвлекла сознание от действительности, прервалась, и Буров вновь обратился к своему присутствию.
Стоянов и Осмоловский пили чай, а Генчев сидел и вертел едва начатую кружку, передвигая её вокруг своей оси и, казалось, следя за её движением.
Буров вышел на двор – небольшой участок свободной земли средь леса. Чуть в стороне находился сарай для всяких подсобных целей, а сбоку был устроен сеновал. Под навесом лежала небольшая горушка высохшей травы, стояла сбитая лавка и три оригинальных стула.
Буров обошёл делянку и даже чуть углубился в лес, пройдя вдоль опушки и немного далее, но вскоре вернулся и устроился под навесом, куда уже проникли мягкие лучи отступающего солнца. Сомкнув веки, он наблюдал живущие и как бы играющие тени, уходящие и приходящие, – то ли извне, то ли из глубин его существа.
Из дома вышел Чипизубов с чайником в руке. Постоял, неспешно затягиваясь дымом, и направился обратно.
Буров поднялся, стряхнул с себя прилипшие травинки и зашагал к дому.
Сбоку дома была устроена поленница. В дальнем её углу помещалось что-то вроде куска расколовшейся истины. За домом, чуть в стороне, сложена баня. По обе стороны от него – немного поднятой земли, а ближе к лесу, с угла, небольшой пруд.
Когда Буров вошёл, все сидели на прежних местах. Чипизубов тянул папиросу и негромко о чём-то беседовал с Осмоловским и Стояновым. Генчев молчал, всё так же вращая кружку и следя за её движением.
В последнее время он начал уставать. Земное притяжение, которое раньше, казалось, было чем-то нейтральным, сейчас обнаружило своё действие и стало всё отчётливее прибивать к земле его шаги. Приняв эту земную функцию, он ощутил доселе, казалось, незнакомую ему тяжесть.
У Генчева, наверное, были основания так себя чувствовать.
Отчего присутствовало это беспокойство? Событийная сторона дела не была большим откровением; всё это было вполне допустимо, даже, наверное, закономерно. Он из закономерности и исходил бы, – «технически, без чудачеств». Но именно «чудачество» Бурова заставило отнестись ко всему случившемуся по-иному.
Язык событий слаб. Язык определений скуден и немощен. Бессилие, порождённое невозможностью, понуждает лишь уныло подчиняться или привыкать к сытости и удовлетворению. И прогресс состоит лишь в том, чтобы желать их ещё больше. Даже если упрямая природа всячески заставляет усомниться, то сомнения сразу опускаются до уровня неудовлетворённости; и для разрешения этого уже не так много и нужно, – всего лишь необходимости. Кого это удовлетворяет – прибегают к здравому смыслу. Кого нет – пускают себе пулю в лоб, выбрасываются из окна или спешат удавиться, считая, что невозможное существует по ту сторону; по сути, также отдавая власть необходимости и неся печать вырождения на скорбном лике времени. «И это жизнь?!» – воскликнет некто юный. – Нет, это не жизнь – это её отрицание, явное или тайное. Но как тайное становится явным, так и живое – мёртвым.
Успокоились рано. Генчев удалился прежде других, выразив желание отдохнуть на сеновале. Чипизубову и Осмоловскому завтра предстояло тронуться в путь, а вслед за ними должен был выступить и Стоянов. Буров хоть и понимал необходимость объяснений, но принуждать себя не стал, решив, что всё скоро встанет на свои места. С этими мыслями он и уснул, а наутро, проснувшись, застал уже готовых к дороге товарищей. Утреннее немногословие подчёркивало будничность жизни, ставящей текущие задачи, иногда одаривающей чем-то новым, вроде смены положений и характера действий. И в это время какая-то строгая мотивация заставляла не делать лишних движений, пусть безобидных, даже приятных, но всё же лишних, не имеющих прямого выхода к обозначению побуждающей цели.
Проводы были скорыми.
После чая, не затягивая времени, вышли. Серое утреннее небо, пропитанное белёсым туманом, шорохом леса и всё тем же запахом прелой травы, почему-то вдруг спустилось к земле. Путники скрылись за деревьями леса.
День едва успел начаться.
2Дождь нагнал их часа через полтора. Прыснув, он немного затаился, перевёл дыхание, а потом уже зарядил с удвоенной силой.
Спутники облачились в плащи, но темпа не убавили. В середине дня их ждал привал, а к концу они должны были подойти к лагерю и там уже обосноваться на ночлег.
К дневной передышке дождь заметно поутих, перейдя в мелкий крап. Не ища особого укрытия, товарищи расположились на краю лесной проплешины и, бросив плащи на землю, тут же улеглись, разбросив в стороны руки.
Подобным образом они провели минут десять, но потом скомандовали себе подъём и стали разбираться с обедом. Позади было шесть часов пути.
Перекусив и собравшись, они забылись на отпущенное для отдыха время. Постепенно тучи рассеялись, и сквозь облака показалось ещё осторожное солнце…
Утром следующего дня с таёжной заимки выдвинулся и Стоянов. Отойдя на несколько километров вглубь леса, он пребывал в том расположении духа, что называется «непрямым ожиданием». Его не настиг, в отличие от вышедших днём ранее, дождь, но почему-то именно этого и не доставало. Много лет назад, когда он ещё работал в одном из КБ, дождь считался его временем. В эту пору решения с большей долей вероятности посещали его голову, всё получалось скорее и определённее.
«И надо было всему этому кончиться… Реальный мир растаял на глазах… И стал ещё более реальным. И даже странно, что могло бы быть что-то одно из двух… Я технарь всё же… Мне алгоритм нужен и определённое им решение…»
Стоянов приостановился, глубоко вдохнул и двинулся дальше. – Утренняя разминка закончилась.
Бессилие подступало совсем близко. Генчев почувствовал его приближение ещё заранее – наверное, ещё во сне, когда тьма зажала его со всех сторон, не давая прорваться сквозь плотное вещество забытья. Страх, что жёсткой лапкой пробовал размягчить существо мозга, слепить ведомую лишь ему причудливую форму, а точнее, бесформенность, пытался превратить его в аморфный кусок теста, с той лишь разницей, что тесто это – живое вещество, претендующее на нечто большее – на истину. Живой субстрат перетекал из формы в форму, под давлением сторонней силы, которая почему-то прижилась в нём и каким-то образом упорствовала, не желая обращать внимание ни на доводы, ни на движения души.
«Оказывается, я не всё знаю, и это лишь промежуточный финиш. Это ли вопрос тактики и желание всё же изменить существующее, введя его в более жизнеспособные формы?»
Генчев опустился на стул и замолчал ещё глубже, так что Буров не хотел даже лишний раз пошевелиться, остановившись в дверях и оставшись там на некоторое время.
«Но что я могу? И разве должен я что-то делать в попытке невозможного, биясь головой о стену совершенно обоснованного, даже для меня самого, непонимания, которое изо дня в день позволяло мне быть? – К чему я шёл оттуда, к чему стремился. Ведь я имел больше. Зачем я стал здесь – на чью потребу и какой жизни? Разве этой жизни? Если б я не имел, то я б, наверное, умер от бессилия, опрокинутый страхом никогда не иметь невозможного».
Генчев посмотрел на остановившегося в дверях Бурова.
«А как же он? Он же не виноват? Может, легче забыть? Природа проста и гуманна. – Она простит; и забудется, и один глас будет нестись в мёртвой пустыне, касаясь сухого песка и не в силах напоить даже его. – Что-то, что понуждает забыть и свести всё к определённым началам, победить страх, не замечая его, забыв и отодвинув, оставив на обочине пути земной жизни – в тщетной надежде, что путь этот не будет скорбным. – Решить возможность – устроительством».
– Пожалуйте, Всеволод Сергеевич.
Генчев начал не с того, с чего хотел начать. Он никак не хотел делить мир на возможности, но ход вещей выносил его к тому, вынуждал, застилая суть жизни, смысл происходящего и полноту восприятия, заставляя производить характеристику отвлечённых начал и уходить в дебри путаной последовательности чего-то, казалось, совершенно чуждого тому, что на самом деле происходило. Следуя этому, ему пришлось бы разбить зеркало, дабы всем досталось по кусочку, а потом из этих кусочков собирать нечто целое, которое уже, к сожалению, не собрать, ибо ничего уже не сыскать, и сам ты уже не хозяин. Да и ладно с ними, с кусочками. Пусть и размеры забыты, и грани невидимы, и представлений о том, что было, – быть уже не может. Зато могут быть объяснения, каждый грамм которых, как грамм взрывчатого вещества из собственной бездны. – Мотивации, за положительность которых вроде бы не приходится краснеть, ибо они обосновывают какое-то развитие, большее или меньшее – не важно.
– Знаете, Всеволод Сергеевич, представьте себе ситуацию, когда вашего друга, близкого человека, избивают. Бьют жестоко, в общем, убивают. Вы, конечно, бросаетесь ему на помощь, но в это-то мгновение подкатывает к вам этакий субъект и говорит, что, в общем, подождите. Там ведь десяток человек, а у вас жена, дети. Ему-то вы не поможете совершенно, а вот вас убьют вместе с ним, на пару. И вы: да, действительно, не помогу (и это действительно так). Ничего не изменится. А если рассудить здраво, то будет ещё хуже… причём многим. И вы останавливаетесь. И даже предпочитаете не знать. Идёте домой и, может даже, если удастся, засыпаете. И, в общем-то, поступаете оптимально… А наутро просыпаетесь подлецом…
Генчев усмехнулся.
– Это я к тому, что здравый смысл из подлеца человека не сделает, а вот из человека подлеца – это совершенно спокойно… Так чего же искать тогда?..
Генчев снова посмотрел на Бурова и, уловив некоторое замешательство последнего, произнёс:
– Это я не вам, Всеволод Сергеевич. – Это я себе. – Устал. А раньше даже не знал, что это такое… Позиции его шатки, чтобы жить. Он роет яму да ещё и подмигивает: дескать, как здорово всё устроено. Ему не жизнь нужна, а смерть. Он только тогда успокоится… Но ты этого уже не увидишь. Даже со страхом можно договориться, а с ним нет. В нём, в страхе, всё же больше жизни… Как в боли… Когда в нём не останется ничего живого, он обратится в здравый смысл, и этим всё кончится… Яд… Или начнётся?.. Всеволод Сергеевич? – Генчев посмотрел в его сторону.
Буров не ответил. Та опорная конструкция, которая позволяет строить на себе всё здание определённого содержания, почему-то отсутствовала. Да ему, в общем-то, и не нужны были ответы…
Несколько минут прошло в полном молчании. Генчев, казалось, чуть ободрился. По телу прошло тепло, и трагедия, что вот-вот стояла за спиной, немного окоротилась, сняв спазмы с живого существа организма.
– Я не о том, наверное, говорю. Мне бы объяснить… Но век слова так короток; в сущности, он даже заканчивается в момент произнесения, так что даже если ничего не ясно, значит, ещё не всё умерло и что-то ещё осталось существенного…
«Все мелкие и крупные предательства, вся суета и тлен… дождь, сходящий с неба… не в силах смыть мерзости и запустения, воскресить хоть какой-нибудь росток к жизни, суля лишь передышку в умирании и отхождении к чему-то ещё более ужасному, чем смерть. Думалось ли, что так будет? – Что кровь не окупится, что страдания напрасны, что подвиги – лишь свидетельство ущербности? Что остаётся, как не взывать в бессилии откупить хоть часть грехов пред лицем Его, доказывая – смех – что не всё потеряно, что эта вот жизнь сильнее, чем ничто; что радость сильнее страха равнодушия, что что-то ещё можно противопоставить силе вырождения, тщеславию плебеев и их умению жить в том, что умнее жизни… с лицами умнее самих себя… И оставаться, когда всё, казалось, кончилось…»
3…Заключительный день пешего отрезка пути сопровождался лёгким ветром, по большей части даже где-то в кронах деревьев. Через три часа после его начала спутники вышли к реке, перебрались на другой берег и двинулись уже вдоль русла, минуя галечники и песчаные косы. С началом сумерек они вышли к устью притока. Постепенно шум беспокойной воды перешёл в более умеренные формы, а на самом выходе вдруг обратился в покой, свободный и глубокий.
В сумерках их встретил Летний Камень, увенчанный короной поздней зари, вписывающийся всей тяжестью своего существа в далёкий простор неба. Он был ещё далеко, на той стороне, за перевалом, но его облик доминировал в окружающем пространстве, нависал и довлел, приковывая к себе сознание и заставляя всё отчётливее приближаться к невозможному.
Очутившись после узких ландшафтов, видимость которых была ограничена лесом, один на один со всем сущим, путники первое время молчали даже сами с собой в возникшем ощущении вечного.
Вечное прервал Чипизубов, но ощутив странность положения, устыдился. По неудобству он произнёс нечто усечённое:
– Вот, пожалуй, и всё…
Осмоловский тоже, казалось, вторил ему.
Разбив лагерь, разведя огонь, они ещё некоторое время сидели, смотря то на языки пламени, то в тёмный свод неба, где так недосягаемо и так близко намечался чёрный контур Летнего Камня…
Спали крепко и легко, вдоволь напившись дорогой и захлебнувшись живым воздухом сказочной тайги.
Утро, чуть успев начаться, подняло их, сдержанно призывая в дорогу. С рассветом Камень показался им не то чтоб другим, но вроде как доступным.
Обернувшись, они устремились вперёд.
В поисках молитвы
«Бог любит человека, а дьявол – людей. Человека он ненавидит. Порой кажется, нет ничего хуже, чем иметь дело с людьми. И даже, кажется, что нет ничего позорнее этого… Но, пожалуй, что и есть. Есть такая вещь, более мерзостная, – чуждая и, кажется, богопротивная. Это вот иметь дело с самим собой…
Но, впрочем, иметь дело с самим собой – вещь подчас очень даже интересная и премиленькая. Но вот как же не приятно иметь дело с самим собой? И интерес этот именно в постижении. В вопросах, задаваемых себе самому. А иногда даже, для некоторых людей, в ответах, даваемых на эти вопросы. Я вот даже знавал людей, которые вместо того чтоб даже стакан воды подать страждущему, вместо него – раз – слово, сентенцию. Но это ладно. Такого добра много: одни – камень в протянутую руку, другие – сентенцию. Это всё, братцы мои, ерунда. Это, я бы даже сказал, совершенно и нормально. Камень ведь – он что? Он и есть камень – предмет холодный и тяжёлый. Ты ж его вроде раз – и выбросил. И слово тоже – не заметить можно. Но нет. Есть люди, которые вместо воды стакана страждущему человеку – сентенцию – раз! И что б вы думали? – Начнут убеждать, что вот это и есть то, что ему, человеку, нужно. Что вот это-то и есть само откровение. А откровение – то стакан воды, поданный вовремя. Пойдут разговоры, что и время-то относительно, и даже перед вечностью. И разум ведь, в силу тех же самых сентенций, смирится и вывернет так, что вот это-то самое слово, сентенция, и есть стакан воды. Ну и что вы ему возразите? – И умираешь от жажды… Но и тут не успокоятся; скажут, что от непонимания умер. Вот какие есть люди. Я, знаете ли, даже люблю тех людей, которые вот эти камни-то кладут. Они вот и мерзость свою не скрывают… А тех не люблю, прости Господи… Хотя, может, и их тоже люблю, – сам такой же.
Страшно попасть в руки Бога живого. Страшна бездна, которая смотрит в тебя. Разве ты мог, что хотел? И разве хотел того, чего не мог? Так на что ты рассчитывал? Или лишь почувствовал двусмысленность, не почувствовав мерзости? Так чего же ты хотел, если мерзость твоя лишь двусмысленность? И на какие вопросы ты отвечал? И не мерзость ли отвечать на вопросы, стоя пред Богом? И как провинившийся шкодник стоял ты пред Богом и отвечал на вопросы. И как ты мог, чтобы Бог слышал речи из уст твоих, не подозревая сам, что сам лукавый стоит пред лицем Его. Он, Который Сына Своего Единородного не пожалел отдать; и как ты мог после этого почитать мерзость за двусмысленность? И как ты мог после этого предстать пред лицем Его? И что слёзы твои, и что все слёзы мира пред слезами Бога живого, пред скорбью Его? И Он ли не хотел, чтоб ты был равен Ему, и Он ли не жалел как Отец, и Сына Своего Единородного на заклание не послал? Так чего же ты хотел после этого, представ со своими выводами и речами своими пред лицем Его? Или же думаешь ты, что Он скорбеть не мог? И не лукавые ли это речи, ещё раз встать между, и сатанинской своей властью низвергнуть Бога в человеках, и обратить мерзость в двусмысленность? И разве не радовался Он, когда Сын Его воскрес из мертвых; разве не Отец Он, Бог мой? И разве не может Он быть один с человеками, и разве нет у Него для человека слёз радости и печали? И что же случилось, если мерзость вдруг обратилась в двусмысленность, а Бог стал не Богом, а человеческим подобием?
Так за что же убили Бога Живого? За что унизили Отца, принявшего смерть от разумных страстей людских, оттолкнув и создав себе бога, который всего лишь слово, если он не Бог? Так какие вопросы ты задаёшь пред Ним? И какие ответы ты произносишь пред Ним? И какие определения готовишь, определяя? – Грех и мерзость на пороге двусмысленности. Грех и мерзость в пылу познания. Тщета жизни вопрошающей и тлен смерти, жаждущей насытится мудростью. Бог мой! Разве можно смотреть, когда дают имя, говоря, кто Он; Творец и тварь. Бог мой! Разве Ты ничей? Пусть и всё тогда будет ничьим, чем иметь Бога чужого…

