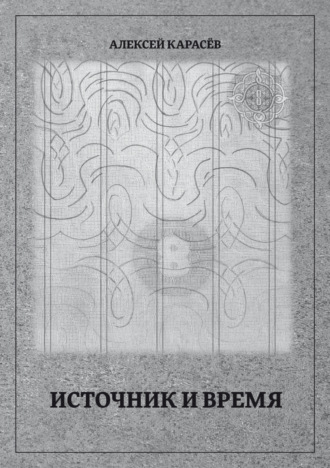
Полная версия
Источник и время
Это их, Кости с Катей, вопрос. И им нести и не погибнуть, не обратившись в подобии и свидетельствуя о самих себе, – свидетельствуя там и тогда. И не быть этакими пробниками, и не пребывать в пробном виде, и жить, не пробуя, а исполняя, не по нужде, а по силе, не в бессилии, а в торжестве, не в потреблении, а в спасении. – Не в светлой надежде, что в следующем поколении «всё встанет на свои места» и не в тёмной же расчётливости, что в следующей пробе всё образуется. – Будто бы ущербное не от ущерба. Не в светлой надежде и тёмной расчётливости, что дети будут жить лучше, когда дети потребители у потребителей, результат и в результате потребления. – За себя и за того парня, то есть нерождённого своего брата, убитого в человеческом своеволии и не познавшего меры в уже дарованном ему избытке – по милости Отца своего, но по прихоти родителей своих. – Вне избытка и торжества, но в беде и употреблении…
Что вне брака – то ложь, что против – то против начала, а что вне начала – то конец… дабы ложь мешалась с правдой, правда была обесценена, а ложь выглядела правдоподобной. – Чтобы не осмелиться жить по избытку, но по беде и потребности, не обращая требы в избыток… А вдруг у них тоже не получится?..»
Через некоторое время они были у того места, куда вела их Катя. Алексей Аркадьевич уже почти позабыл об их цели, так как внуки по ходу дела перебегали с одной стороны на другую, отвлекаясь и подходя к загонам, клеткам и вольерам. Они обменивались звонкими удивлёнными голосами в своём зримом торжестве живого, готовые отдавать, не думая, что отдать, и поэтому – отдавая всё. Алексей же Аркадьевич встречал – чувствовал – «эту устойчивую, и даже в чём-то мировоззренческую, незаинтересованность братьев наших меньших в человеке», что совершенно как-то подводило его к условности происходящего, обращая всё в какую-то неопределённую сердечную печаль, которую, если бы не очевидная «пустяшность», можно было бы принять за скорбь. – Впрочем, это заставляло лишь обратить внимание, присмотреться, отодвигая от ждущей, караулящей, выжидающей безнадёжности. «Может быть, просто я ещё не проснулся, – подумалось ему. – Может быть. А по ним этого не скажешь. – Разве неведение – это неправда?…»
Катя остановилась.
– Вот она, – обратилась она к «деде» и Косте, – мама-мишка. У неё много деток, она всех любит и уже старенькая.
«Это ей Люба сказала. – Её слова. Хотя, может быть, это она и по-своему… Конечно же, по-своему. Никогда уже мне не увидеть деталей, а раз так – непосредственной, сиюминутной радости, от момента, от пёстрости – этакой «колоровэ ярмарку»».
Медведица же не смотрела по сторонам. Она топталась на месте, что-то себе думала и, несмотря на свой почтенный возраст, выглядела очень ухоженно и благообразно. – Густая и добротная, вычесанная и вымытая шерсть образовывала массивную шубу – благородное одеяние матери семейства, по чести носимое и по праву заслуженное. Вскоре подошёл рабочий с миской мелкой рыбёшки и принялся кормить её прямо с руки. «А ведь она ленинградка и родом из детства», – улыбнулся Алексей Аркадьевич. Катя поймала эту его улыбку и внимательно примолкла, а Костя, вторя им обоим, произнёс:
– Она мишка-бабушка.
Вещи безусловные – это те вещи, которые выступают свидетелями самоё себя. Вещам же условным самоё себя недостаточно. Порой меру условности даже трудно себе представить, и ежели вскрывать всё, то может наступить ступор у людей восприимчивых и неподготовленных. По счастью – таких не много. Большинство же – невосприимчиво, много меньше – восприимчиво и подготовлено. – Но это тот случай, когда ошибка дороже правоты. И далее – вопрос во времени открытый.
Условность эта, по человеческому разумению, побуждает остановить историю, хотя бы на уровне образа, но по милости – это всего лишь побуждение. – Таковым и остаётся. И по беспомощности – всё продолжается, а по милости – не заканчивается.
Ложь питается человечиной. Растение или животное – не её пища. – Разве что заодно. Непосредственная же близость к правде способна повлиять на всё. Когда правда так близка, остальное становится почти невидимым, и жить иначе становится странным. – Страх отступает, делается неуместным и – именно – условным. В самом деле, какой же из тебя человек, ежели ты живое от мёртвого отличить не можешь?.. Почему, собственно, невидимым? – Потому что не смотришь туда, куда не следует. – Нет нужды. В общем, до простоты просто – чтобы сложное не было ложным, а слагаемое – лгущим, так как сложное и слагаемое ставит под сомнение единое и неделимое и обозначает возможность вне его. Отсюда и упорное стремление определять безусловность ложного только на том основании, что оно реально. Это вроде как для поколения рок-н-ролла, вскормленного на мертвечине, свобода определяется действием трупного яда. – А им кажется, что они вскормлены чуть ли не на идеалах. И они в этом не одиноки, так как в мире присутствует смерть. – Разве смерть безусловна?.. Так как же быть с поворотом головы? – От правды невозможно удалиться. Правда рядом, и от неё можно лишь отвернуться, принимая реальное за безусловное и слагая единое из возможностей и вариант. Сложное не может быть правдой – в своей неизбежной попытке деления неделимого. – А это никуда не годится. Сложенное – от разложенного, от целого – простое. Целое – от абсолютного, сложное – относительно. И что тогда человек в образе своём? – Сложен или абсолютен? Целен или относителен?.. И есть ли тогда, что любить? И возможно ли любить, если эта любовь – относительна?.. Да, дорогой зритель, Деточкин не брал себе денег… И у кого возникнет вопрос, почему Деточкин не брал себе денег… Более дурацкого вопроса быть не может… Это ложь создаёт условия, целое же порождает избыток; избыток кончается там, где кончается целое. – Что сложено – то вне правды. – Даже оставаясь при этом честным… Может, кто-то всё же сомневается, что вопрос дурацкий… – Пусть поднимет руку, а мы рассмотрим…
Когда помещён был человек в условия и окружён ими, когда выброшен он был промахом своим на поприще скорбной лжи, дабы изжить жизнью и избыть избытком там, где предназначено ему быть по делам его, не обратил ли он это условие – в слово своё, в торжество ложного, презрев на исходное и не обретя себя в нём? Условность начинается там, где твоё место – не твоё, где наступает реакция пустоты, её утверждение; где избыток обращается в множество, не вмещает самого себя, не справляется о самом себе и разрушается в невозможности себя самого. – И нет места в месте… А условия… – Сегодня они человеческие, завтра они не человеческие, – вот и вся недолга в этом расползающемся и рыхлеющем мире. Вот и все слова – в беспомощности и от беспомощности, ежели беспомощность эта – бессильна.
И порой кажется, что правда – это единственное, что может не нравиться по-настоящему. Но при всём при этом правда в адвокатах не нуждается. В адвокатах нуждается ложь – прямо или опосредованно, так как ложь очень нуждается в правде. – Но и это не как боязнь для будущего, а как возвращение к прошлому и обретение его…
Постепенно место заполнялось, день становился всё более солнечным и тёплым. Прозрачный осенний воздух – менее обволакивающий, но более вмещающий – определённее отзывался людскими голосами, сливающимися в едином звучании с голосами зверей и птиц, населяющих и это невеликое место. – Место, некогда бывшее, но переставшее быть близким, становящееся близким вновь и говорящее со своими обитателями на всё таком же особом языке – по-своему, по-детски, от малого и родного, вне общего и чуждого, облекая и подводя, отдавая и возвращая, ничего не беря и всё образуя. – Всё, что готово было вернуться и быть своим.
Алексей Аркадьевич уловил это лёгкое движение воздуха, тёплое и причастное, – вроде как не расставание даже, а напутствие памяти. – Той памяти сердца, что сильней рассудка памяти печальной[2], – соучастия к удаляющемуся и даже забытому по немощи и нерадивости, или просто беспечности, которая способна убить (и убивает), но разбивается о милость и обращается в избыток. – До поры до времени, конечно, – но всё же… И на всякие идеальные, даже математические, модели, которые, наверное, позволяют и способствуют определению места, ориентации его в пространстве и даже расчёту, существует эта милость, о которую они с успехом и разбиваются, дабы ещё и ещё раз чудесным образом мобилизовать те разрозненные, перемещённые остатки человеческого и утвердить их именно там, где необходимо. – И жить дальше, имея место в месте и новую попытку себя самого.
Костя с Катей ещё летали и перекликались – ранние пташки, проснувшиеся для бодрствования и вкусившие его. Но они всё чаще смотрели на деда и вскоре уже не отходили от него. Может быть, они просто устали, но это было теперь не важно. И даже катание на пони вышло как прощание – «оформленное окончание» действия, утверждение и признание его в целостности и определённости, неотъемлемости и единстве со всем, что будет потом.
«А экзотики что-то совсем не получилось, – мелькнуло у Алексея Аркадьевича. – Вот только ворона и медведь». – Он улыбнулся и посмотрел на внуков. Но те уже уставились на него и молча ждали его решения.
– Ну, что? Пошли?
Костя с Катюшей, как по команде, кивнули.
– Тогда пошли…
Через несколько минут они уже были на выходе.
Часть третья
Тунгусский рубеж
Избыток и мусорный ветер. Часть первая
1Есть ещё один момент, весьма характерный для ощущения ситуации. Он не столько морален, сколько математичен, даже арифметичен. Но при этом он всё равно сводится к началам духа, хотя и по довольно сложной траектории, которая порой и не проступает очевидно, а лишь взывает к осмотрительности – как к последней возможности, когда уже «сокрушён в победе, набирая высоту». Эта неочевидность и является главенствующей в утверждение – порождением невозможности жить всем и сразу и сопутствующей ей, даже симбиотической, беспечности. И если первое вроде как в порядке вещей, то второе – это уж совсем никуда не годится. Беспечность, как было замечено выше, убивает. Беспечность не безобидна и не бескорыстна, не кротка и не смиренна, – потому как не бывает сама по себе. Беспечность замешана на мертвечине и определяется действием трупного яда, обильно выделяемого как естественным вроде бы путём, так уже и синтезируемого. И потенциал этой химической промышленности велик. – Благо, что не всеподавляющ. – Хотелось бы верить. Посему момент этот именно технический, вроде спасательного круга, который надо просто схватить, не особо рассуждая, – а там видно будет.
«Математичность» же этого явления определяется простейшим, казалось бы, правилом: закрытием скобок и вынесением знака «минус» за их пределы, при котором в оперативном поле остаются либо сплошные плюсы, в виде неких прогрессивных устремлений, порой совершенно необозримые, либо оттеняющие минусы для вящей правдоподобности. В общем, по желанию и необходимости. И протяжённость эта может быть столь велика, что заглянуть за её пределы нет почти никакой возможности. Стоит заметить, что физической возможности, пожалуй, никогда и не будет, так как физика всегда ограничена, даже непосредственным образом, то есть самой собой. Если угодно – она детерминантна, то есть не абсолютна. – «И об чём разговор». Выколи глаза, проткни уши – и никакой информации; а сломал голову – и никакого сожаления по этому поводу. Всё ущербно в этом желании увидеть и потрогать. – Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. Ни дать ни взять. Из грязи в князи – из жидов да в рай. – Вот такие вельможные паны и вот такие янкели.
Так вот, о скобках и плюсах, и даже о тех же самых скобках и минусах… Чувствуете слабину? Ощущаете всю шаткость всего? Ежели всего лишь скобки раскрыть – и с точностью до наоборот. И ничего по сути не изменится. Просто обретёт себя и станет видимым. – Но не изменится, ежели ты отсюда и обозначен. Не для жизни и делается. – Для удобства. Обозначение условно и правда не обозначается. – Обозначается ложь, пытающаяся выстроить себя из себя же, обрести знаковый характер – знаковость и условные обозначения – вынося за скобки и стремясь определить то, что безусловно, сокрушая и предавая. – Для себя, конечно. – А то как же себя слагать и строить?.. Так что важнее: создать или сохранить? – Вот увидите: будет поиск компромиссов, дабы означить, определить своё положение и себя, силясь утвердиться и утвердить – то есть обозначить вновь. И тем самым лишить себя всего – не обозначенного никак. – То есть самой возможности жить. – Те же скобки, дабы выдать мёртвое за живое, вынося мёртвое за пределы и обозначая, чтобы дать пищу и выдать существующее за безусловное… Так что важнее: сохранить или создать? ежели без создания не можешь, а без сохранения обречён?
Был, кстати, математик, который попытался убрать это положение из своего научного багажа и жить… под седлом, в узде, но без него[3]… Плохо кончил – сошёл с ума… А не был бы математиком – не сошёл бы. – Делов-то… Но это уже слишком далёкие вещи.
Как бы то ни было, а наряду с непосредственной потребностью в правде, дабы быть правдоподобной, ложь нуждается и в обозначениях, и в скобках, чтобы, играя ими – непременно по правилам, – оправдать себя, исходя непременно из благих намерений и используя всё хорошее. Страшные дела делают, в общем-то, хорошие люди, означенные и заключённые в означенные пределы. И остаётся только догадываться, что будет, когда скобки раскроются. – Не хотелось бы так удивляться. Так что будем осмотрительны, дабы иметь всё – не обозначенное никак, – и жить этим как не возможным, но достижимым. Попытаемся ухватиться – а там видно будет.
С некоторых пор Осмоловский стал замечать, что ежели человек по каким-то причинам начал помышлять и даже сопротивляться вырождению, то у него начинает совершенно определённо портиться характер. И наоборот: если характер совсем даже не портится, то человек, глядишь, всё более подвержен этому вырождению. Он понимал, что если это и не бред, то какая-то непременная хвороба, даже инфекция, лекарство от которой есть и видимо, но не доступно. Такое положение его озадачивало и удручало, но по большому счёту ничего поделать с этим он не мог. Потому-то он предпочитал быть в одиночестве, причём совершенно осознанно. – «Такова жизнь, таковы мы…»
Как было отмечено ранее, Осмоловский был человеком не значимым; и для нашего случая это, пожалуй, стоит записать в актив.
И, наконец, третий момент, который необходимо отметить. – Осмоловский был выпускником «тридцатки» – матшколы – и имел «безусловную пятёрку» по профильной дисциплине. Мало того – он был выпускником факультета прикладной математики и даже некоторое время аспирантом и «молодым учёным с публикациями», едва-едва, практически формально, не дошедшим до учёной степени… Но это вдруг кончилось. Подробности пусть останутся за пределами, но сам факт весьма примечателен. Математик – это навсегда, причём без иронии, – в самом хорошем смысле этого слова, «если, конечно, он не математик-профессионал. – Пусть хотя бы ещё и физиком будет, а лучше – химиком». Наверное, у Осмоловского это не получилось и «пришлось расстаться. – К тому же – я всё-таки прикладной».
В общем, скобки и знаки – это по его части. С другой стороны: «стоило учиться, чтобы в столь зрелом возрасте обратиться к начальной школе». Думается, ради этого и стоило, дабы вослед хорошо забытому Кузанцу обмолвиться об учёном незнании и «очередных достижениях в этом деле…».
Чтобы ввести повествование в надлежащее русло, следует вернуться на некоторое время назад – туда, где, собственно, и остались Чипизубов с Осмоловским, – в перспективу Летнего Камня и массив тунгусской тайги…
…Чуть далее и вглубь по берегу находился схрон, из которого Чипизубов достал резиновую лодку. Наладив снаряжение, путники вышли вниз по реке.
Осень выдалась сухой и достаточно тёплой для здешних широт. Уже практически не было комаров и мошки, вытесненных ясными утренниками. Днём же температура достигала вполне комфортных значений, а солнце делало общую картину и вовсе благоприятной.
Зелёно-жёлтая тайга подступала к берегам – то непосредственно, то несколько отдаляясь, нависая с обрывов и стелясь с пологих возвышенностей. Обрывы обнажали складки и слои, вскрывая время и представляя его в единстве – на раз давая возможность прожить всем сразу – то зыбко и недолго, то определённо и зримо. – Пусть опосредованно, через свидетельство, но масштабно и даже дерзко – изнутри стратифицированной временной толщи, очевидной и узнаваемой. И терялся человек в тихом восторге и сопричастности, безмолвно собирая точащуюся под вековым давлением правду, чтобы, напитавшись ею, изжить страх, его слепоту, заставляющую пригибаться, прятаться и прятать… А здесь – вроде не от кого.
Они двигались, выбравшись почти на середину потока. В два же часа пополудни направили лодку к правому берегу и, чуть пройдя вдоль, выбрали место для стоянки. Сверху стекал ручей, более даже похожий на простой сток, так как не имел чёткого русла, – а посему довольно широкий, мелкий и спокойный. Осмоловский вытащил лодку и направился в прибрежный лес за дровами, а Чипизубов остался близ воды, осматриваясь и определяя место для огня.
Когда вода в чайнике закипела, Чипизубов бросил в неё щепотку заварки, сдобрив предварительно несколькими листами кипрея – «для местного колорита, что всегда под рукой». Когда же чай задымился в кружках, движение почти прекратилось – время взяло паузу. – Как говаривал Чипизубов: и эти синкопы не чужды контрапунктам…
Через сорок минут движение было продолжено – теперь уже до вечера, до поздних сумерек, до первого призыва к ночлегу.
– Это тебе на память, – Чипизубов протянул Осмоловскому продолговатый камень. – Конофитон. Говорят, свидетель давних и дивных времён – от живого до окаменевшего…
Ни единой живой человеческой души не встретилось им в этот день.
Всё дышало: не в повседневной, потребляющей, основе, дробящейся и множественной, но единой и общной; не делящейся, а изначальной – что прежде всего, а не в результате чего-то. Это не предполагало даже малейшего доминирования, даже намёка на вероятность его. Даже безобидного повседневного слова о себе, желания и потребности. – Было всё, чтобы жить. – От избытка, а не по недостатку, от свершения, а не от возможностей.
Посему – большей частью они пребывали в молчании, следуя той простой мысли, что молчание – тоже слово, только услышанное или не сказанное вслух. – Убережённое от мерзости запустения и большого скопления людей, его, слова, свободы и соответствующей этому – не к месту будет помянуто – инфраструктуры. Они об этом не думали. – Не сейчас. Потом… Как-нибудь…
Когда сумерки их настигли, путники опять взяли ближе к берегу и пошли вдоль. Причалили уже затемно и, благо розжиг был подготовлен заранее, развели быстрый костёр со всеми положенными месту действиями.
…Одинокий огонь в обширных исполненных пустотах не нарушал ничего. По малости своей он не мог наполнить и согреть это пространство, не мог осветить путь и сколь-нибудь определённо рассеять наступившую сокрывающую тьму. Он даже, в общем-то, не мог никого позвать и предложить передышку на этом малом месте. – Лишь быть яркой точкой для ночных обитателей близкой воды и окружающего леса, коим, наверное, он был не особо и нужен. Но всё же он был приметой. – Приметой человека, его присутствия и его восходящей жизни. И всё же, наверное, обращался и призывал. И ежели бы кто-то был рядом, то непременно отметил бы это про себя, так как одним своим появлением здесь он напоминал о человеке, о его сродстве и стремлении, о сообразующейся с окружающим миром жизни. – Призывал если не подойти, то остановиться где-нибудь поблизости и проделать всё то же самое, подтвердив и утвердив увиденное и воспринятое. – И быть рядом.
И одним своим образом, даже не помышляя о том, отмести нелепое и безобразное: быть нельзя…
Следующий день начался установленным порядком и хорошей погодой. Товарищи поправили снаряжение и продолжили путь.
Впереди открывался поворот реки и непрямое ожидание. В первую очередь это относилось к Осмоловскому, для которого всё было вновь. Но, возможно, и Чипизубов переживал нечто подобное, соприкасаясь с вечно меняющимся и неизменно постоянным. Будущее открывалось постепенно, по течению, естественно и определённо, исходя из своей последовательности, сдерживающей человеческую устремлённость и пресекающей его желания. А Чипизубов хоть и был покоен насчёт перспективы, но всё же причастен, – и это говорило само за себя. И Осмоловский, глядя на него, не был навязчив в отношении к будущему. От добра добра не ищут: торжество было одно – и там и здесь; это и определяло сопричастность. – Не возможность, а неизбежность, не изношенную прогрессивность, а побеждающую неизменность, не реализующуюся в недостатке потребность, а исполненную в избытке надежду.
К середине дня они вошли в попутный каньон. Русло заметно сузилось, берега превратились в отвесные скалы, и звук обрёл замкнутый характер. Чипизубов, вторя мыслям Осмоловского и отдавая им должное, направил лодку к берегу и причалил у береговой террасы, будто специально устроенной для спуска к воде и остановки, соединённой с верхними ярусами подобиями ступеней характерно правильной формы и чётких очертаний. Малое и, в общем-то, безобидное стремление Осмоловского, так предупредительно подхваченное Чипизубовым, было осуществлено: он-таки ступил на этот берег и ощутил-таки эту твердь под ногами.
Кто не знает всего, тот не знает и малого. Кто не знает вечного своего образа, тот потерян и во времени, почитая своим всё то, что ему это время ни положит. – Так ему кажется… Кто не знает о невидимом и не имеет в себе места для него, тот лишён и своего места здесь. – Отнят, полагая местом своим условия и реализуя эти условия для себя и по разумению своему. – И нет места в месте… Так откуда этот каменный берег, на котором ничего нет? Откуда это стремление утвердиться здесь, полагая и зная, что даже огонь здесь недоступен, – и нет никаких условий для остановки, кроме как стремления почувствовать «твердь под ногами» и уделить себе удел свой, определяя себя уже не условиями, а отсутствием их? – Постоишь и уйдёшь, пребудешь и отступишь, – даже по причине сей малой, сиюминутной, невозможности, – открывая и закрывая, утверждая сокрытое и свою же несостоятельность утвердиться в нём, сокрушаясь и… радуясь этому сокрушению.
– А ведь потерянные всё-таки не знают, что они потеряны. И сказать-то об этом – не скажешь. – Они слишком «уверовали» в свободу слова, чтобы считать слово ценностью; а эта свобода является и почитается за ценность там и тогда, где и когда само слово ценностью быть перестаёт. Иначе бы зачем всё это? – Всё решалось бы само собой, и вопрос этот не возникал бы. И это ещё одна подмена и ложь. И ещё одна возможность жить по лжи, оставаясь при этом честным… Может, тогда действительно лучше молчать или говорить в молчании что-нибудь не то, дабы плевали на тебя, не в силах поругать сокровенное?..
Чипизубов не ответил…
Странное дело, но они задержались здесь много более предполагаемого. Отвесные скальные стены и гулкий внутренний шум воды, ограничение перспективы и наступающие каменные теснины. – Но, опять же, странное дело, – казалось, что жизнь начинается там, где исчезают возможности. И это настораживало и завораживало, заставляло неметь и продолжать быть здесь, принимая ценность как подарок – на пустом месте, из ничего, из сотканного пространства, из оставленного времени, из того, что было, что есть и что будет. – Вне возможностей и условий их осуществления, из всего, чтобы жить.
И горький парадокс грехопадения – нерешимость и несостоятельность перед избытком – проявлял себя будто не на «своей территории», «вне закона», – а посему исчезал, оставляя лишь расползающийся след. И уже где-то там его проявление переходило в свидетельство ущербности, где-то там полагало быть чуждым «по определению», предпочитая и обретая прибыль и утверждая этот «естественный посыл»… Это ли дело как дело? – в порядке вещей и с непременным ярлыком на состоятельность в ранге «такова жизнь»? – Будто у жизни нет больших оснований. – «Везёт как утопленнику, – только и мог сформулировать Осмоловский. – Слово как образ, где правда в исконном, для нас – в минувшем. А истина в постижении и развитии – это от человека. – Вроде как в будущем – а посему эфемерна. Вначале было слово – и будет. Правда же не по пути, а искони, – время правды не несёт; и мы все родом оттуда, из детства, – в попытке повзрослеть как надо». – Осмоловскому не оставалось ничего более. Ничего более он и не имел…
Но само «более» – никуда не делось. Оно чуть отступило, замерло и притаилось, пережидая и дожидаясь возможности выйти вновь. – В самом деле: не век же им здесь быть. – Здесь даже огонь недоступен, и надо подыскать место, лучшее для остановки. Да и не проголодались ещё, видимо, родимые. – Ничего, обождём… Оно хоть и нетерпеливо, но, когда надо, терпеть умеет. На нетерпимости своей и потерпит. На ненасытности и подсчитает. На невоздержанности и отступит. – Дайте только время – время играет за…

