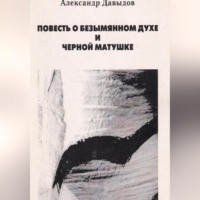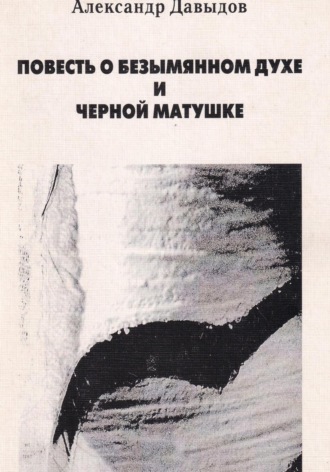
Полная версия
Повесть о безымянном духе и черной матушке
Разгребает он пепельную кучку. Находит там обгорелые костяшки. Поигрывает ими, по-разному раскладывает. Выхожу я из своего дворца. Подхожу к человеку, кончиками пальцев его трогаю. Задумчив человек. Костяшками играет, на меня не глядит.
Спрашиваю я его, будто сам я ангел, задаю вопрос: кто ты? Долина ведь моя – долина смерти. Никому она не родная, чужая всем. Оттого один тут задают вопрос: кто ты? А ты кто? А кто я? Больше и спросить не о чем.
Я человек, тот отвечает. И снова играет костяшками. Так их разложит, сяк. Говорит: ребенком я любил играть в кубики. А тут у тебя одни костяшки. И поиграть нечем. Я играл, говорит, в кубики. И привык я, говорит, играя в кубики, что творение обратимо и время над ним не властно.
Тут закончилась тринадцатая глава и началась четырнадцатая.
Глава 14
И его спросил: так ты рожден в жизни? Ах, друг мой, тот отвечает, скажу тебе, как труп трупу – честно: как твоя долина скудна, так скудна и та долина. Здесь время – глыба, там оно – ручеек. Здесь смерть едина и слитна. Там горохом рассыпается, мелкими бесенятами. Ты тут умер раз, там я умирал по сотне раз на дню. Все там в трещинках мелких смертей. Так на них вся жизнь и разменяна.
Думаю: и его речь, как шаманский бубен. Спрашиваю: так ты рожден в жизни? Отвечает: и ты в жизни рожден. Только твоя жизнь зовется смертью. Я рожден на другом конце света. И вышел встреч смерти, шагая по временам, вертясь в бурлящем потоке. Вышел я встреч смерти и смерть встретил. А встретил ли ты жизнь?
Мутно говорил он, тяжко. И я ему сказал: но скажи, ведь музыкален тот мир? Здесь-то музыка застыла. Здесь музыка – опостылевший дворец, где сколько не ищи меня, не сыщешь. Там-то, поди, музыка разыгрывает сладкую симфонию ошибок и совпадений. Подчас сливается тот мир с мечтою, вознаграждает сполна. А то вдруг лукаво увильнет. Или вдруг ввысь взовьется скрипичными струйками. Тот ли мир не хорош? Здесь – смрад один и голая степь. Там – сияющие бездны верха.
Сидит человек в кучке праха копается, горелыми костяшками поигрывает. Молчит. Потом заговорил: чужой всем здешний твой мир – каменная глыба, вся устремленная внутрь. Но и тот мир чужой. Аж к самым губам подступает чуждость. Голову надо задирать.
Но там вверху-то – небеса, говорю я ему, а здесь, глянь – захарканный потолок. Он не слушает, а говорит дальше: твой мир – глыба, а тот – хлипок и слякотен. Тут хоть гордыня твоя осеняет тебя крылом. Там же, я был жалок и беспомощен, ни единой разгадки мне не было дано. Ни легоньким даже пунктирчиком не очерчено было ни единого пути. И снова он замолчал. Склонил белый кипарис к нему свою верхушку. Осыпал его власяницу своей белой пыльцой.
Шел он по временам встреч смерти. Я же встреч жизни шел по равнине, где время иссохло, как мелкая травка. Повстречались мы в Лимбе, в беломраморном дворце, где распахнуты форточки во все миры, но наглухо заколочены двери.
Там есть небо, мой друг, начал тот. Ох, и бездонно же оно, ох, бездонно. Донышка не выглядишь. Так, что в глазах рябило, вглядывался я в тот дальний свет, допрашивал его, допрашивал, молил открыться.
И он открылся? – спросил я его.
Да куда ж открываться нескрытому? Это ж не каменная твоя глыба. Это есть неукрытейшее из всего. Это и есть пространство, в котором мы. Каждый отказ спархивал с небес, как легкое перышко. Твои смыслы утоплены в ночи. Мои – в небе. Устал я раз, и два, и сотни, сотни раз получать нет. И я задумал создать свой мир. Я ничего не знал, так ведь творцу и пристали одни догадки. Догадался я, что нет мира без прошлого. У моего дома разлеглась пара мраморных львов. Не псиной от них воняло, не смрадным дыханием хищника – источали они сладкий, трагический аромат тления. То был для меня запах прошлого – лежали два прошлых льва, а ныне символы. Символы ничего, того, что ушло без возврата. Памятник погибшим временам.
Ведь понял я, что настоящее нельзя набить всем на свете. Потому изобрел я сумеречное поле грусти, витающей вокруг жизни, ставшей камнем. Так бил он в свой шаманский бубен.
Далеко распростерлось вспять мое прошлое, лучшая моя выдумка. Далеко оно простерлось, до немыслимых пределов, где угасают и мысль, и чувство, где кишит мелкая, темная жизнь. Продвигал я свое прошлое вспять, пока не уткнулось оно в камень аммонита.
Потом выдумал я будущее, простер его вперед – нежный луг, поросший яркими цветами. Простирался он до горизонта, где сходятся земля и небо. Где в свете невероятном утоплены окончания всех путей. Где беззаботность властвует. Где нет нужды творить. Где время впечатано в пространство.
На этих странных словах иссохла глава четырнадцатая. Началась пятнадцатая глава.
Глава 15
Ах, друг мой, товарищ мой по смерти, знал бы ты глупую привычку того мира всякую щель заполнять жизнью! Ведь между сотворенным мной прошлым и мной сотворенным будущим крошечная щель и осталась. Зыбкая трещинка, вьющаяся, как змейка. Так и перла в нее жизнь, как травинка, пробивающая асфальт.
Уж лучше гордая твоя равнина, где ветер взметает смертный прах. Где царит твоя неутоленная гордыня. Где вечное настоящее властвует. Где это настоящее стало прошлым, ибо окаменело. Где оно стало будущим, ибо туманно.
Ах, как уютно твое вечное всегда! В том же мире – нет пространств настоящего. Оно, словно мембрана, вечно вибрирует под напором будущего и прошлого. Стараюсь я ухватить “сейчас”, но только воздух ухватываю в горсти.
И склонился тогда над человеком белый ангел. Белой своей рукой провел по его лбу. Стер с него одну морщинку и другую. А потом снова замер, как кипарис, клином устремленный вверх.
Глыбы времени были разбросаны там и сям по всей моей долине. А я был их пастухом. Стала иссякать глава пятнадцатая, но шестнадцатая не рождалась. И человек сказал: не озарил я прошлое и не продумал будущего. Я ведь мал был и нов в том мире.
Ах, друг мой, продолжал он, друг мой милый и единственный. Повенчанный со смертью, ты не повенчан со временем. Твой удел идти встреч временам и уткнуться в детство. У меня же детская моя дерзость превратилась в унылый инфантилизм созревшего человека.
Теми словами он слизнул последние капли пятнадцатой главы. Началась глава шестнадцатая.
Глава 16
Сиял мой дворец в сумерках всей сотней своих окон. Тот дворец, где нет меня, сколько не ищи. Сидели мы с человеком, неудачливым творцом жизни, в бесприютных сумерках, разгребали прах от погребальных костров.
И сказал человек, впершийся всем своим телом в мою нежную смерть, потревоживший мой постылый покой, растормошивший мою непроснувшуюся душу. Он сказал: я творил словом, но не знал имен. Именовать свершившееся – дело не творившего, а сотворенного. Я искал имена для родного, того, что омывал океан чуждости. Но бессильны те были, не напитывались силой вещей, не вовлечены были в их судьбу, не вели и не были ведомы. Они были – как клейма, как бирки.
Не именовал я, а нумеровал, скорей. Ваял я статуи, лишь загромождавшие времена и пространства. Так бил он в шаманский бубен.
Иногда, продолжал он, я делал вид, что равнодушен к жизни, чтоб она сама ко мне льнула и ластилась. Он ведь женственен, тот мир, где разлита материнская сила. Словно музыка на воде, случалось, играли светлые переплески моего “сейчас”.
Когда же иссяк мой младенческий сон, так, скажу тебе, друг мой единственный, товарищ по смерти, понял я, что дальше творить бессилен. Грянул миг подлинной трагедии, когда разом понял я, что навек повенчан со временем. Тогда я вышел встреч смерти.
Тут конец шестнадцатой главе. Началась глава семнадцатая.
Глава 17
И ответил я ему: темны для меня твои речи. Как и моя речь для меня темна. Но я – дитя ночи, а ты рожден днем. Хорошо, должно быть, ты придумал ту жизнь. Не позабыл ни об одной загогулинке и завитушке. Придумал ты будущее, а не позабыл ли о смерти, гордой моей подруге, обители моей гордыни? Тогда жизнь была бы не просто дурнушка, а трагически обреченная чахоточная барышня.
Высока была бы твоя жизнь Все бы вокруг стало – хором, ты один – героем, предстоящим трагедии мироздания. Трагедии жизни, точнее, сказал он. И смерти, добавил я.
Я выдумал великую смерть – черную ночь души. Твоя бы смерть таилась в каждом твоем миге, как его сердцевина, как его суть и его тайна. Раздробил бы ты единую мою смерть на мелкие песчинки, сыпались бы они одна за другой, пока бы вовсе не иссякли. И тогда заполнил бы тебя покой до самого донца глупой твоей души.
Заговорил он. Спрашивает: скажи, есть ли сны в твоей долине? Или же вся она сон? Гипнос и Танатос – братья, но в чем крепче они: в любви к друг другу или в ненависти? Не изгнал ли суровый Танатос легкокрылые сны из твоей вонючей долины?
Молча я стоял. Что ему отвечу? Здесь все сон и нет сна. Сновидение без сна, греза наяву. Сонная, изменчивая явь. Молчал я. Слезы ронял на нас белый кипарис. Узки были врата, в которых мы столкнулись с посланцем жизни.
И он сказал: как капнуло последней каплей мое детство, оскудели мои сны. Не стало в них буйства и бесстыдных желаний. Обжилась в них дневная скука. И ничего он больше не сказал. Не стал рассказывать свои сны, видно, запустевшие, как моя долина. Где бесстыдные страсти не могучие деревья: их пригнуло к земле. Стали они хилыми и больными, как вон тот гнилой подлесок.
Тут тихо стало в моем Лимбе. И травы не шуршали. И деревья не стучали ветками. И канула глава семнадцатая. Началась другая.
Глава 18
И сказал я ему: а любовно ли ты творил тот мир – творенье в творении? Так ведь бездонны там, у вас небеса, и они полны до краев любовью. Здесь-то что мне полюбить – хилый тот перелесок? облезлую волчицу? ангела, скрывающего от меня узкие врата? Ведь и вошел ты в тот мир, не как я в свой, а любовью родных душ. Любовно ли был сотворен сотворенный тобою мир? Или творился он холодно, не любовью, а жалостью только порой. И не к миру жалостью, а к одному себе.
И он сказал о своем: движением тела мог проникнуть я в будущее, мирским жестом – ни силами ума, ни души. И, помолчав, потом он заговорил дальше: только сотворил я мир, любовью ли, жалостью, как он стал мне непослушен. Творил я его своими детскими страстями, куда подмешана и любовь. Но сотворенное страстями, послушается ли ума?
Своим умом я хотел выдумать счастливый мир, светлый мир детства. Но кропотливо созданное, еще отчаянней тянет развеять в прах, как сгусток своей муки. Ох, друг мой единственный, как невыносима скука творенья! Только предсмертность каждого мига давала мне силы жить. Вот и он о смерти, подумал я. Кто же скажет мне о жизни? Не разменивают ли они попросту в том мире великую смерть – черную смерть души, долину, осененную крылом Танатоса, на мелкую разменную монету?
Спросил я его: надо ли мне идти встреч жизни? Пройду я весь путь, как корабль, идущий против ветра, прочитаю первую главу последней. Что написано в первой главе, скажи, друг мой единственный, посланец жизни?
И он сказал: первая страница чиста, как первый вздох. Первая страница и пишется последней.
И тут иссякла восемнадцатая глава. Началась девятнадцатая.
Глава 19
Как пара шаманов били мы в свои бубны. Подпевал нам гнилой перелесок. Подвывала волчица, пришедшая из своей чащи к водопою напиться из реки Забвения. Столкнулись мы с посланцем жизни в узких вратах, и не разойтись нам вовек, ведь ни один не посторонится. Нахлестнули друг на друга два пенных вала и замерли окаменевшей бурей.
Вот я расскажу тебе, единственный мой друг, страшную сказку, мой мертвый сон, сон без движения и без исхода, который можно исходить из конца в конец. И он не имеет развязки. Он не символ чего-то, он – всему основа, и все иное – лишь его метафора.
Тогда, ты помнишь, пролилась на меня кровь отрока. Проникла капелька сквозь поры камня к самой его сердцевине. Сохранил, сберег камень капельку живой крови. Напитала она мою сонную жизнь. Стал алкать крови угрюмый камень. И жизнь того отца стала моей воле подвластна, причастна моей вечности и зависима от нее.
Приводил он к камню и скот свой, и людей своего племени. Пронзал он грудь их, взрезал им чресла острым с меня сколком. И становился я причастен жизни через пролитую кровь.
Взмел ветер поземку – погребальный пепел запорошил нам обоим глаза, припорошил волосы. Захватил тот человек мою шею крюком своего посоха, к себе пригнул. И сказал он: не надо о крови, друг мой единственный.
Но кому еще рассказать один мой сон, который я исходил из конца в конец и не нашел из него двери. Ибо моя ночь – навсегда.
Оттолкнул я от себя того человека. Выпал из его руки посох. Стал змеей. И змея уползла в травы. Зашелестел подшерсток земли. А потом все тихо стало.
И спросил я его: скажи, друг мой единственный, а может, не услыхали мы голос архангельских труб, ты – увлеченный жизнью своей, я – своей смертью? Вот теперь мы оба – в мерзости запустения, и все воды теперь горьки, как полынь. И оба мы с тобой – два всадника. А от тебя ошую скачет жизнь. А ко мне о десницу – смерть примостилась.
Глянул тот человек ввысь. Уперся его взгляд в грязный потолок. По нему скользнул. Нашарил луну, ночную красавицу, обведенную пальцем ангела. Упорен стал его взгляд, словно высматривал он на луне родные души.
То было так, ибо он сказал: свое созданье они нам поднесли, как дар, а мы его загубили, дети ночи. Неслышными шагами мы ушли от сотворенной яви, ушли от их мира и тайно сотворили свой. Да нет, мы его не таили. Он ведь не штуковина, он – игра, а не игрушка. Они лишили нас теперешнего, мы их – будущего. Ни к чему нам их игрушки, как не понять им наших игр.
Мы привыкли играть без игрушек, что передают из века в век скудное однообразие времени, пространства и мысли. Придет час, и стану я лунным жителем. И полюбит меня тот, чьей родной душой стану я в том отдаленье. Полюбит за так, пожалеет незадачливого творца. Да еще и за то, что не навязывал я ему своего творения.
А творение есть ли, спросил я его? Выглядывал ведь я в узкие воротца, и видел я в нашей жизни одни руины.
Пылают, он мне ответил, погребальные костры. Вздымаются ввысь язычки света. Тянутся они к небу. Не знала молитв наша душа. Так пусть будет мертвое наше тело той жертвой, что приносим мы небесам. Нечего нам им принести. Разве что смрадный дым. Ну, еще – суетливые язычки пламени, тонко протянутые ввысь. Развеется смрад, останется пепел. Взрастет новое на наших истлевших костях.
Жизнь наша, сказал он, взяла у смерти ее силу и траурную прелесть. К небесам – тянутся, земля же всегда с тобой. Рок небесный утоплен в беззвездном небе, земная же судьба – наша опора. Узки врата жизни, врата смерти всегда распахнуты. Сжата правая рука ангела в кулак. Левая его ладонь всегда раскрыта. В том мире всегда неуют и тревога, ведь если и закрыты небеса, всегда разверсты могилы. Так странно говорил человек тот.
Обернулся он к смерти, я же к жизни обратился. Жизнь, просил я, дай мне хоть единый миг, хоть искру, хоть проблеск тебя. То вымаливал я у истинной жизни. Не у царицы же могильных холмиков, а у той, что веет ласковым ветром, а сама – невидимая.
Ни у кого не выпрашивал я подарков. И сам никому не дарил. Что подаришь в моей долине, разве что горсточку праха, печальную луну, тоскливый вой облезлой волчицы?
Тут стала заканчиваться глава девятнадцатая и вся вытекла. Началась глава двадцатая.
Глава 20
Ах, смерть моя, так обращался я к моей жизни, ты могучая птица ворон, разговаривающий с тучами. Как высоко ты могла бы поднять меня, будь небеса в моем Лимбе. Тут же небо низко рукой его достанешь. Только ангел мой – белый кипарис – и есть вся высота моей долины.
Если бы ты, жизнь моя – смерть, дала бы мне хоть маленький проблеск света, знаешь, что бы я сделал с ним? Обволок его в кокон так, чтобы вовек он себя не растратил: ведь блеск наружу напрасен, свет внутрь всегда сохранится.
О, как бережно нанизал бы я каждый миг на нить, тонюсенькую, как паучья пряжа. Собралось бы таинственное ожерелье жизни. И пересчитывал бы я взад-вперед каждую бусинку. Россыпи мигов даешь ты, жизнь моя – смерть, каждому болвану, пускаешь перед каждым шутихи прозрений и проблесков. Мне же дала ты единый курс времени, замуровала меня в угрюмую глыбу. Как мне из нее выйти тебе встреч?
Давай-ка я расскажу тебе сказку, сказал мне тот человек. То было, когда я всю жизнь расточил и растратил, творение свое смахнул на пол – так оно опостылело мне. Облекся я тогда в эту вот власяницу. Посох себе срезал, вон тот, что уполз змейкой. Тогда пошел я по дороге без всякой цели.
Навстречу мне идет старичок. А вдали сияет город. Как думаешь, спрашивает старичок, сколько там праведников? Подумал я, прикинул, пересчитал на пальцах. Говорю: все там праведники. Тогда, говорит старичок, сейчас провалится он в бездну. Дунул – и нет города. Не сияет он вдали. А вместо него – яма.
Пропал старичок, а я стою, словно соляной столб, не могу двинуться.
Говорю тому человеку: я твою сказку слыхал. Ну что ж, он мне отвечает, беру свое добро, где плохо лежит. Где хорошо, тоже беру. Подошел я к яме, туда заглянул. Лежит там весь городок, но обожженными глиняными фигурками – человечки, домики. Игрушечным он стал, для детской игры.
Тут глава двадцатая почти закончилась. Но успел человек сказать еще слова. Говорит: так остался я на земле один человек. Остальные же – моя многоликая тоска, суетливая моя тревога.
Тут кончилась глава двадцатая. Началась двадцать первая глава.
Глава 21
Равнина моя подвешена, как хрустальный гроб, к небесам. Подвешена она на золотых цепочках. Тонких, но прочных, однако ж. Поддувают ветры в ее донце, и она раскачивается среди пустых, не ухоженных мной пространств, словно люлька поскрипывает.
Облака плывут не сверху, а снизу. Подумал я: не в чужой ли сон я попал? Сны ведь в ночных небесах летают стайками. А мы в ночи бормочем и гулькаем, приманиваем сны. Вот отпорхнет от стайки один, сядет к тебе на грудь, прильнет к сердцу и его согреет. В своем сне и ужас сладок.
А тут, может, приманил я чужой блуждающий сон. В чужую смерть окунулся. Из чужого же сна не выпутаться – так и будешь блуждать в сумерках. Пропитаешься весь мутью чужой души, надышишься смрадом чужих непереваренных страстей. Ведь, если б то был мой сон, моя долина, моя кара, был бы он мне сладок. Был бы я в своей долине крупен, а так катаюсь по ней, словно бобовое зернышко. И все ж не втиснуться мне в узкие воротца ранки на ладонях ангела.
Заглянул я туда как-то. А там, будто котельная – трубы, трубы. Надо земляным червем стать, чтобы втиснуться в жизнь, в нее ввинтиться. Немы мои небеса, не раздастся оттуда голос: встань и иди встреч жизни. А может, ввысь устремлена моя долина, может, она словно карта-черва. Вот ведь кипарис мой верхушкой своей указывает вверх, и устремлены туда же стрельчатые окна моего дворца, а он ведь и есть все мое пространство. Может, мне туда и надо идти – вверх, чтобы выйти встреч жизни?
Спящая дева роняет из рога по капле в глиняную чашу. Что тут значит время? Оно тут – неделимая частица вечности. Но ведь тут вызревает чего-то. Что тут зреет? В долине моей, моем Лимбе?
Ты спрашиваешь меня, кто я, белый ангел. Я – вечность, заключенная в вечность, вмурованная в каждый миг. Я – вечность, заключенная в сердцевину мельчайших частиц пространства. Скажи, кто я, мой белый ангел?
Здесь конец главы двадцать первой. Началась двадцать вторая глава.
Глава 22
Ветер поддувал в днище моего гроба, поскрипывал он на золотых цепочках. Был он тайной мира. Был он от меня тайной. Слову он не поддавался, не был ему подвластен. Только в ритм его качков можно было войти. Ритмом заворожив, приручить тайну.
А тот человек на глазах становился бесплотен. Тот, кто и в своей смерти был телесен, вдруг стал истаивать, как льдинка. Пар от него шел, тянулся к потолку, как сигаретный дымок. И он становился все прозрачней и прозрачней.
И я подумал: а тот, был ли вовсе? Был ли наш странный разговор? Или от своей тоски я его придумал? Ведь как легка грань между бывшим и небывшим! Попробуй отдели то от этого в моей долине, где время стало камнем.
Растаял тот человек, словно льдинка. И я опять стал волен и безымянен.
Тут начала иссякать глава двадцать вторая, но замешкалась и пока не иссякла.
А человек тот истлел, выпал из его руки посох, опала его власяница и легла на землю. Приподнял я ее, а под ней одни кости лежат – нет того человека. Хочу я радости, а вечно вляпываюсь в мертвечину. Хочу так распахнуть веки, чтоб все звездное небо ссыпалось в мои глазницы, но только пустые глазницы черепа распахнуты всегда, только в них обживается природа, только в них живут небеса. Свищут ветры в пустых глазницах черепа, выдувают оттуда время.
Тут конец главе двадцать второй. Началась двадцать третья.
Глава 23
А все-таки скажи мне, ангел, чей сон я приманил? Какого демона или духа растревожил? Ведь тяжела мне моя долина, чужой для меня этот сон. Слова мои для меня невнятны. Фу, какой дрянной сон!
Я знаю, как выпутаться из земного сна, хоть и тяжелого и занудного, но своего. Надо изогнуть свое тело и из него вывинтиться. Разорвать его паутину, как это делает муха. И тогда погибнет надорванный сон. Унесет его вдаль, как облако. Ведь без тебя он беспомощен и хил. Только бы из него вывернуться, как змея выворачивается из своей шкуры.
Но тот сон, о котором я говорю, называется смертью. Он вечен, этот сон и плотен, как камень. Вымышлен он каким-то древним демоном. Он из тех снов, что правят жизнью. Тут уронила спящая дева в фонтан еще капельку.
И я отчего-то позабыл все слова. Одно только слово выпорхнуло из моей груди, как птица. То было слово “грусть”. Вырвалось оно из моей груди, как вздох облегчения.
Сочится грустью моя долина, исходит из нее тоска по смерти и сумеркам. Исходит из нее вожделение к жизни, невесте моей, с которой мы повенчаны.
Распахнуты в моем дворце форточки во все миры. Все их я познал, но не действием, а как запахи. Мне знакомы запахи всех миров. Не пора ли мне прийти в жизнь, в ее оскудевшие вконец пространства, хотя жизнь и стала лупоглазой дурой, а люди все попрятались под могильные холмики.
Если нет уже жизни, то пускай хоть смерть властвует на ее опустевших просторах.
Тут бы и конец двадцать третьей главе. Но нет, я еще сказал: пусть же затеряюсь в пространствах жизни, словно пустоглазый череп в траве. Пусть незабудки прорастут в моих пустых глазницах. Пусть поселится там молчаливое время. Пусть омоет весь мир мои глаза без зрачков. Века будет лежать мой череп, затерянный в разнотравье.
И сказав это, я замолчал, ибо закончилась глава двадцать третья. Началась двадцать четвертая глава.
Глава 24
Тысяча комнат в моем дворце. И все распахнуты. Обошел я все, но себя в них не нашел. Одна только, маленькая, замкнута на замок. Нет у меня от нее ключика. Унес его черный ворон, что сидит на кипарисе и разговаривает с тучами.
В ту комнату сцежены все ночи до единой. Самая их гуща, непроглядный мрак. И когда будет жизнь растрачена до полушки, двери той комнатки сами распахнутся. И все, что там, выйдет в мир сквозь узкие врата. И тогда весь мир станет ни от кого не укрываемый тайной.
Ох, и опостылели мне вечные сумерки. Здесь копится только тоска. Не растекается она – негде ей тут растечься. Все здесь становится плотным, как камень.
Тут белый кипарис снова обернулся ангелом. И он сказал мне: дурень, ты, дурень, вперился ты в свою смерть, вцепился в нее, как собака в кусок мяса. Далась она тебе, дурню. Сам ты сказал, что сны летучи. Так примани из стайки самый легкокрылый.
Выдумал ты, что скрываю я от тебя врата, а у меня их нет вовсе. Тут ангел раскрыл свои ладони и мне протянул. Чисты были ладони ангела, не было на них ранок. Затянулись кожей узкие врата.
И ангел сказал: нет вопроса без ответа. Ответ в нем, как золотая сердцевинка. И вот ты уже по ту сторону врат. Шагая по сумеркам, вышел ты встреч жизни. Сам ты уже стал ангелом. Распахнулся гроб, подвешенный к небу на золотых цепочках. И душа из него выпорхнула, как белая голубка.
Итак, словом “голубка”, закончилась двадцать четвертая глава. Началась двадцать пятая.
Глава 25
И тогда вонзил белый ангел свой меч в землю. А меч был огненный, потому запылала мелкая травка. Закурилась сперва дурящим дымком. А потом занялась, заполыхала.
От нее занялся и гнилой лесок шипел и потрескивал, фыркал еловыми иголками. Вышла из него подпаленная волчица, псиной воняя и паленым волосом. Бросилась она в реку, называемую Забвение, и там навсегда пропала.
Загорелся мой дворец о тысяче комнат. Ух, каким костром заполыхал! Пал красный свет на стены моего Лимба. По низкому его потолку заметалось пламя – то выгорали мои пространства, гроб мой полыхал.