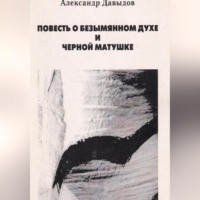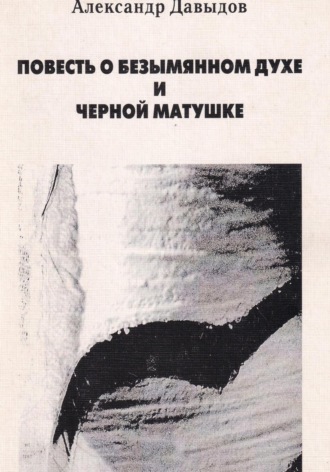
Полная версия
Повесть о безымянном духе и черной матушке
И чудится ему, мне то есть, видимо, от одиночества, что кипарис обращается белым ангелом. И даже как будто в руке у ангела огненный меч. Уперся он мечом в землю и кончиком поджигает мелкую дрянную травку – та потрескивает, попыхивает, дымится дурным вонючим дымком. И обращается к нему, то есть ко мне, ангел и задает вопрос. Прост тот вопрос: кто ты? – он спрашивает. Глупый вопрос, в зубах навязший. Сам себе по сто раз на дню его задаешь. Но тут – ангел.
Заглянул он в себя, или в меня, уж не знаю. А в нутре его – кишках, голове и повсюду – простирается туман, черен, непрогляден, себя там не выглядишь. Но нашел он слова, выкатились они у него из глотки, как козьи катышки, и сам он поразился странности их и темени. Странно ахнули они в странной той долине, прокатились по пригоркам, отозвались эхом со всех сторон. Я, сказал он, мал, как песчинки, и я велик, как мир. Я не рожден, но и не был вечно. У меня нет имени, у меня сотни имен. Я, как облако, зыбок и тверд, как камень. Я – порыв силы, я – сила порыва. Я – вошь, я – вселенная.
Так сказал я ангелу. Тут иссякла первая глава, вытекла до капли. И началась глава вторая.
Глава 2
Обратился ангел в белый кипарис. Потом кипарис снова обернулся ангелом. Смотрит на меня ангел своим рыбьим, бессмысленным почти взглядом. А сам почти до прозрачности белый. Видны сквозь него перелески, горки, почти не замутненные. И весь он в прожилочках, паутинках своих воздушных, серебристых чувств. А я, как сальное пятно на его чистоте и незамутненности. Задает мне ангел вопрос: кто ты? Заклокотали, захрипели слова у меня в глотке, изблевал я их наружу. Говорю: я – тоска, я – счастье, я – надежда, я – погибель, я – больше вселенной, я – меньше атома, я – великая тайна, я – самое, что есть несокрытое. Вот кто я.
Тут начала иссякать глава вторая, но не иссякла, а продолжается.
Сказал я ангелу: ты мне скажи, кто я. И стал отвечать мне ангел своими золотыми искрящимися словами. Где как бы не звуки, а их оправа, то, что пред и после – предзарождение звука и затухающее послезвучие. Сперва на миг пахнуло лугом цветущим – и это в провонявшей той долине. Но не просто лугом, а над которым реет, невидимой такой вуалеткой, нежнейшая, легчайшая тревога. Потом распутались запахи, как клубок. Стали воздушными тропинками, каждая из них вела к собственному сокровенному. Потом забрезжила какая-то летящая в сторону светлая даль.
Так говорил ангел. А вот каковы были его звуки. О – как дух клевера, едва не достигший ноздрей. У – как всхлип трубы, на таком расстоянии, что ее и не слышно. Ю – как морская глубина, которую не выглядишь. К – как хруст ветки в лесу, где был только в своем воображении. Н – как ласковая рука, протянутая к волосам, но в последний миг остановившаяся, может быть, только кончиком пальцев их коснувшаяся. Ш – пожалуй, как неслышное скольжение змейки, такой серебристой, лукавой. З – как зелень рощи, но уже облетевшая. П – как беззвучное течение воды. Г – как качающийся язык колокола, не смеющего зазвучать. Ч и Щ у него вовсе не было. Одно только придыхание, намек на тревожный звук.
Так странно говорил ангел, потому что нет у нас слов для красоты. Таково проклятие миру. Для похабства – сколько хочешь.
Тут вытекла до капли вторая глава. Началась глава третья.
Глава 3
Рассказал ангел о том, что во мне светло, но не понял я ангела. Отвратил я тогда взгляд от себя, от своих внутренностей, от смердящих кишок. Стал я озираться, как испуганный зверь, взглядом метаться по долине. Что, она и есть мир? Мир ведь весь должен быть из моих “ах” и “ох”, сладких снов детства, а здешний мир горек, как желтая волчья ягода, вязок, как недозревший инжир. Течет здесь единый век, да никак не истечет. И можно заплутаться в здешних недвижных пространствах, как в слякотном осеннем дне.
Здешний мир, как чаша, – вверх загнут горизонт. А расположен он ниже земного мира. Потому сюда стекают земные сны, темные, вязкие, как деготь. И почудилось мне, что я не как другие, что я не рожден в жизни, а родился прямо в смерти. Не знал милосердья, но нет на мне и греха.
И сказал я ангелу: хочу идти встреч жизни, навстречу временам и пространствам. Открой свои узкие врата, и я выйду в мир. Узки врата в свет, в жизнь врата еще уже.
И почудилось мне, что лукавит ангел, словно бы скрывает он узкие врата в своих ладошках. Они и без того, как махонькие ранки, а он сжал кулачки и вовсе от меня их скрыл.
И я сказал: разожми свои ладони, ангел, и впусти меня в узкие твои воротца. Бросил ангел свой огненный меч на траву. Затрещала, зашипела дрянная травка. И показал мне он свои ладони. В середине каждой по ранке. Пытаюсь я войти в ранку. Больно ангелу. Слеза из его глаза скатилась, пала на землю, и вырос из нее белый цветок.
Не протиснулся я в ранку ангела. Остался в своей смерти. Тут бы и конец главе третьей, но она еще полноводна. Начал я ангелу рассказывать сказку.
Был я когда-то духом без тела. Даже твоя пленочка телесней, чем я тогда был. Парил я вольно, имени у меня не было, не было у меня места, все пространство было мое. Только я завидовал камням – прочности их и ясности. А на земле стояла скала. Приник я тогда к скале, просочился в ее нутро. И стал душой камня, его угрюмой и сокровенной жизнью. Тут и иссякла глава третья. Началась глава четвертая.
Глава 4
Подошел к камню человек. Ухом к нему приложился. Услышал, что трепещет в нем жизнь, темная, глухая и сокровенная. И прозрел он во мне своего бога, ибо я был вечен и сокровенен. Стал он приходить ко мне, приносить дары. Как-то привел своего сына, положил его на меня, на камень. Занес над ним каменный же нож, острый сколок с меня. А ты, ангел, не отвел руку. И брызнула кровь из сердца отрока, потекла по всем моим морщинкам, влажной стала подо мной земля. Это мне приснилось, ангел. А к чему – не знаю.
Тут ангел обернулся белым кипарисом. А потом снова стал ангелом. Вот что я скажу тебе, ангел. Грозный ангел, охраняющий узкие врата. Я и сейчас замурован в камень. На нем накарябано кое-как, детской рукой, слово “Лимбус”. То – название моей долины. То – название всех моих названий.
Знаешь, тут нет луны, ангел. Такой сладко мерцающей в ночи бусинки. Шарика в мраморных прожилках. Туда возносятся наши сны. Не такие, как ты, а темные ангелы, под цвет ночи, подхватывают наши сны, возносят к луне и там оставляют, как брошенных младенцев. Еще там обитают родные души. А у меня нет родных душ, я ведь сразу рожден в смерти. Понимаешь ли ты меня, ангел, простое существо?
Ничего не ответил ангел. Только воздел свою руку ввысь, махнув белым рукавом. Дотянулся пальцем до поднебесья. Нарисовал на нем лунный диск. И обрел мой Лимбус луну. Но там не жили родные мне души, ибо я рожден в смерти, а не в жизни. И снов моих там не было. Ибо они не легкокрылы, не предвестья будущего, не знаки прошлого. Они – темные закоулки моей долины, моя мука, моя смерть.
На окраине моей долины стоял лесок. Был он темен и мрачен. А теперь странен стал от лунного света. Вышла оттуда волчица. Помотала своим языком – он чуть не до земли у нее волочился. А сам, как пламя, красен. Подняла она свою морду к луне. А та не из вздохов, не из младенческих слез, а светлое пятно, начертанное мне в утешение рукой ангела, стерегущего узкие врата.
Прямо к луне подняла волчица свою морду и завыла тоненько, жалобно, как покинутый младенец. И волчьим воем закончилась четвертая глава. Началась глава пятая.
Глава 5
О белый ангел, приоткрой мне свои узкие воротца, ранки на твоих ладонях. Втиснусь я в них всем своим телом, и ты познаешь радость боли. Станешь ты красен, как планета Марс, подмарав свою незамутненность кровью из собственной раны. Станешь ты новыми мехами для пунцового вина, разбавленного водицей из твоих жил. А я, сила порыва и порыв силы разверну свой парус, пойду против ветра. Мой парус обуздает время, подчинится время моему парусу. И помчусь я не против времени, а встреч ему. От мудрости смерти подойду к младенческой беспомощности. Сомкнется мудрость смерти с мудростью детства. Накоплю я свой грех и укрою его в мелком зародыше, крошечном тельце.
Слушал меня ангел, в задумчивости опершись на свой меч. И сияла луна в небесах моего Лимба. Тиха и нежна была ночь смерти. Дребезжали кузнечики в никогда не кошенных травах. И слова мои парили над долиной, как огромные летучие мыши, крылья свои раскинули от горизонта к горизонту. Волчица подвывала в перелеске.
Ты спрашиваешь, кто я, белый ангел с огненным мечом? Я – запустевшее слово, смысл которого вспорхнул и пропал в поднебесье. Я – ни к кому не обращенное слово. Тяжелы его основы, словно камни разбросаны по моей долине. Эти камни, как барашки с подмаранным мехом. А я пасу свое стадо. Темная, невыраженная жизнь теплится в каждом из них. Слово мое, как раковинка, всегда обращено внутрь себя, не растрачивает свою силу, а только ее копит – ведь нет выхода из моей долины, все пути ведут вспять. Есть только узкие из нее воротца – ранки на ладонях ангела.
Только копит, только вбирает моя долина, ничего не выпускает наружу. Она исполнится силой и поворотит время вспять. В нее, как в чашу, стекут все сновидения мира. А сны и есть жизнь. Стекут они в мой Лимб, и останется в мире только жесткий остаток привычки.
Тут начала иссякать пятая глава. Лишь несколько капель осталось на донце.
Ты спрашиваешь, ангел: кто я? Я не кто, а что. “Кто”– это те, что в жизни. А я – “что”. Я – неторопливое, неразболтанное слово. Я – истинная тайна, шепот в себя, я слово, вывернутое наизнанку. Я то, что замуровано в слово, повернутое к вам своими ничего не значащими задворками. Вот и угадай, кто я.
И сияла в небесах царица ночи, владычица снов, начертанная рукой ангела на потолочной балке моего Лимба.
Тут иссякла пятая глава. Началась шестая.
Глава 6
Ощутил я тайну своей долины, где течет единый год, и все никак не кончится, где неделимо пространство. Почувствовал я исходящий от здешней почвы дух тайны, и сердце мое потеплело.
То была тайна – не жизненная тягостная путаница, а сладкая жуть. Ее источал здесь каждый кустик, каждое деревце того хмурого леска. К такой жути приникают люди Земли в раннем детстве, мне же, заброшенному в смерть, она принадлежит вся и всегда.
Не с чем мне тут играть, нечем упиться. Разве что моей томной, сладостной тайной. Нет надо мной небес, которые все приемлют, готовых вобрать все излишнее. Где-то там, в самой вышине, за хрустальной синью затаилось милосердие. Нет в моем Лимбе выси. Там, в жизни – вышина, пространство тайны. Здесь надо мной тоже твердь, но унылая и жесткая, как захарканный потолок сортира. Тайне здесь некуда взлететь и негде укрыться. Она клокочет, как бурные воды, в моем Лимбе, доходя до губ.
Все здесь обращено внутрь, ибо не к кому, не к чему обратиться. И нижней бездны тут тоже нет, нет здесь ада. Ни мук здесь нет, ни милосердия.
Снова стал кипарисом белый ангел. А из леса вылетел ворон, черный, как ночь, и уселся к нему на макушку. Сидит черный ворон на верхушке белого кипариса и разговаривает с тучами.
А ко мне подползла на брюхе старая волчица, начала мне руки лизать своим шершавым языком. До крови излизала.
И увидел я в небесах видение. Протянулось из конца в конец ожерелье из жемчужных бусинок. А нитка его – Млечный путь. Порвалась непрочная ниточка, раскатились бусинки по всему небу. А среди бусинок светлых, одна черная. Это и есть мой Лимбус. А в ней – я сам, всегда обращенный в себя. Слилась та бусинка с темнотой небес, в небесах затаилась, как неблещущая звезда.
Улетел ворон, убрела в лес волчица. Кипарис снова стал ангелом. На том закончилась глава шестая. И началась седьмая глава.
Глава 7
Построил ангел для меня дворец, чтоб я жил в нем. Податливо пространство моей долины, сотканное из мечты, как из тончайшей пряжи. Провел он кончиком своего меча по пространствам взад-вперед и во все стороны и построил из моих пространств хрустальный дворец.
А перед дворцом поставил фонтан. Лежит там, в перламутровой раковинке спящая дева и в руках своих держит рог. А из рога сочится вода, цедится по капельке. И падает она в гипсовый кубок. Но тот кубок не переполнится вовек. Таково время в моей долине. Не буря, не вихрь, а капелька за капелькой.
Много комнат в моем дворце. Зашел я в каждую. И открывается всякая дверь в ту же долину, с той же хилой травкой, с тем же дремучим гниловатым леском. И из каждого окна видно то же. Таково пространство в моей долине.
Неизвилист сладкий мой мир, мир урожденной тайны. Нету там ни единого изгиба, чтобы было что полюбить. Он архитектурен, как застывшая музыка. Ничего там не проистекает, только цедится по капле.
И лишь одна светлая капелька у самых его врат это белый ангел, те врата стерегущий.
Словно налили меня, как вино, в мехи, чтоб стоял я там не веками, а единый век, терпким стал и пахучим. Смертью пропитался, стал до конца смертью, и уж только тогда пустят меня пойти встреч жизни.
Мысли не было в моей долине. Ни чувства не было, ни страсти, ни милосердия. Одно лишь напряжение внутрь, безысходная тягость. Я был сокровенной и хмурой душой камня. Камешка, который застревает в щелях между мигами, который замурован в оправу каждого мига. Там, между мигами, и гнездится Лимб каждого, между двумя тиками часов. Там, где нет времени, волны воздушного тока, милосердия и страсти.
Ни дня, ни ночи нет в моем Лимбусе, вечные сумерки, когда распахнуты форточки во все миры. Но замкнуты двери в любой из них. Нет исхода из Лимба.
Обошел я весь дворец свой, зажег все свечи. Засиял мой дворец. Стал виден изо всех далей и пространств. Падал свет от дворца на все стены моей долины, плескался на них, играл тенями. Любовался я игрой тех бликов из каждого своего оконца.
И тем временем истекла глава восьмая.
Глава 8
Гляжу я из окна дворца своего на задремавшую мраморную деву. Вся она в зеленом склизком налете. Изъедена черным грибком. В трещинках ее мраморный рог. Когда-то сыпались из него дары мироздания. Теперь только вода сочится. Сижу я и считаю капли. Одна упала, вторая. А третья повисла на кромке, так и висит, никак не капнет. И вот в ней – все мое время, и весь я, повисший между днем и ночью, в сумерках моего Лимба.
В моем дворце тысяча комнат, но нет меня ни в единой. Ищу я себя по всему дворцу, но нет в нем меня. Обшариваю каждый закоулок. Пыль в горсти собираю, каждую пылинку разглядываю. Ни одна пылинка не я.
От одной только комнаты нет у меня ключа. Подхожу я к ней, ухо прикладываю к скважине. Там только ветер свищет и словно плачет кто. Там посредине трон стоит. Лежит на троне яйцо. В яйце том иголка. В иголке смерть моя.
Кто я, белый ангел? Я – тоска мира, распростершая крылья от звезды до звезды. Я – черный ворон, разговаривающий с тучами. У тоски нет слов. Она живет в теле тел, в своем вечном Лимбе.
Тут бы и конец восьмой главе. Но она не иссякает, ибо тоска всегда полноводна.
И я сказал еще: слушайте: я – ваш истинный язык, язык без слов. Язык без речи, а не ваш разноголосый гул. Я – темная основа всех языков и наречий. Я – тьма, побуждающая вас тянуться к свету. Я – ваша черная земля. Вы – дурашливые былинки. Я – ваше тело, тело тел – спящий младенец, парящий в небесах среди звезд. Смрад от гниющих трупов возносится в небо и очищается высями, но хранит память о своем Лимбе. Вот и угадайте, кто я.
А пока закончилась глава восьмая. Начинается девятая.
Глава 9
Стоит в моей долине ангел, как белый кипарис. Он не причастен моей смерти, но и в жизнь меня не пускает. Он, как преграда Божьего гнева, не пускающая в милосердие Божье.
Замурован я в свою гордыню, как мураш в янтарную каплю. Но – то гордыня ли или гордость? Гордыня – не склониться перед Богом, гордость – не поклониться кумиру. Но нет Бога в моем Лимбе, нет там вершин, упираются в серый захарканный потолок все мои молитвы, высей не достигают. Ведь Лимб мой – тело тел, смрадно булькающее непереваренной пищей.
Кто я? Ответь мне, белый кипарис. Я – та неутоленность, которой ты не знаешь, светлый ангел, похитивший у меня огненный меч. Мне б он не просто отягощал руку. Взмахнул бы я им, и воспылали бы здешние травы. Жертвенным костром воспылал бы мой Лимб, единственное, что я могу пожертвовать не виденным мной небесам.
Молчаливый мой ангел, нет между нами слов. Только протянуты от одного к другому серебристые нити. Ткем мы нити, как пара паучков. Связывают они нас неразрывно. Нерасторжимы мы и друг с другом, и с сумрачной долиной. И с дворцом моим о тысяче комнат. И с неистекающим здешним веком. Мы с ним – отражение друг друга в кривых зеркалах. Вот кто мы такие.
Вырви нас из долины, и там останется рваная рана, истечет из нее гной мира. Едина и цельна, как камень, долина, где коротаем мы отпущенный нам век. Един и целен тот век – каменная глыба времени. Не может он истечь в моей долине. Не может непроистекающее время разрушить мой Лимбус. Оба они, как камень в камне.
Невозможно прожить мой век тому, кто рожден, минуя жизнь, в смерти, как невозможно просочиться внутрь камня. Не расцвечен мой век цветами жизни. Он – серая суровая глыба. Из таких вот глыб и сложен мой дворец, где моя смерть затерялась, как иголка в сене.
Тут конец главе девятой. Начинается десятая глава.
Глава 10
Каково же тому, кто, испив жизнь до последней капельки, вошел в узкие врата смерти? Покажется ли ему моя долина мукой невыносимой? Он-то как скоротает свой век, отвыкнет от времени? Будет ли перебирать бусинки своей памяти? Из смыслов прежней жизни мастерить все новые узоры?
Говорят, в смерти нет прежней памяти. Вон там плещется река за окном. Зовется она Забвением. Вода ее – едкая для всех картин жизни. Памяти образов в ней – конец. Но тянуться от прежней жизни ниточки запахов. Из них можно прясть пряжу, а потом распускать кудель.
След той земной жизни тут – и утешение, и казнь для тех, кто жизнь прожил. Мне же не дано ни утешения, ни казни, ведь нет на мне ни единого греха. Но ведь тогда и милосердия мне не будет.
Заплутался мой взгляд в моей смерти; она как серенький денек, из которого вовек не выпутаться, не дождаться ночи, куда утоплены концы всех путей. У меня же нет пути – заброшен я в слякотный денек, в вечные сумерки.
Вот кто я, ангел – скопленная сила, устремленная внутрь камня. Я – клад, припрятанный до тех времен, когда все размотают, когда растратятся цветущие времена. Тогда разверзнется моя могила, восстану я из нее во всем блеске своего тления, и времена обернутся вспять – это я вышел встреч жизни.
Пойду я по цветущему лугу. И жизнь выйдет мне навстречу – поблекшая дева в веночке из незабудок. Руку она мне протянет. Возьму я ее за руку, поведу ее в домик под белым кипарисом, что врезается в самые небеса острым кончиком. И грянет наша с ней брачная ночь. Выйдем мы с ней встреч друг другу. И сольемся с ней в вечной любви-ненависти. Грянет музыка небывалая. Сначала вступит разноголосый, расхлябанный хор а капелла, будто бессвязный говор людей. Но все стройней и упорней станут звуки, все целенаправленней и слитней. Возноситься станут в небо один за другим.
Сперва – самые легкокрылые, за ними другие; басовые, бархатные ноты воспарят последними, и стройной чередой вознесутся они все к Небесному Престолу.
И тут разверзнется грань между смертью и жизнью – щелка между нашими телами. Изольется оттуда музыка небывалая, увенчивающая и жизнь, и смерть: каждый звук, зачином своим обращенный к жизни, гаснет, поглощенный смертью.
Как-то допрашивал меня любопытный ангел: кто ты – дух, демон? Ах, наивный ангел, не дух я и не демон. Я – душа камня, я – тоска мира, замурованная в оправу двух тиков стрелки. Ты не знаешь тоски, белый ангел. Ты так прозрачен, что луч проходит через твое тельце без малейшего излома. Не пускаешь ты меня в узкие воротца, чтоб не оплодотворил я жизнь своей тоской. Тут, в моей долине, она безопасна. Она, как черный ворон, опустивший свои крылья. Черные, сумрачные, угрюмые, не как твои стрекозьи крылышки. Могут укрыть весь мир черные крылья вещего ворона.
Хотел ответить мне ангел, уже всплеснул своими прозрачными крылами. Да тут истекла глава десятая. Прямо не единой капельки от нее не осталось. Грянула одиннадцатая глава.
Глава 11
А скажи мне, кто ты такой, ангел? Ты – моя мечта о жизни, и больше никто. Ты – мое незнание жизни, ибо ты чист и прозрачен. А меч твой – преграда Божьего гнева. А за ней – милосердие Господне.
Иногда, сидя в окошке своего дворца, как царевна Несмеяна в тереме, слышу я плеск и шелест. Перевозят через реку, именуемую Забвеньем, новые души. Только, они прожили жизнь, они полны страстей. Перевозит их вонючий грек, старый лодочник, напевающий вечный сиртаки беззубой своей пастью. Мечутся и тоскуют прожившие жизнь души.
Ступают они в лодку на том берегу, тугие, переполненные своей плотью. Как тени, мелькают они по моей долине, охают в перелеске. Ох, и тяжко им в смерти! Но их век – не глыба, он и в смерти текуч. Наступает их час, падает, как бим-бом башенных часов. И раскрывает им ангел свои воротца – ранки на своих ладонях. И торжественно вплывают туда просветленные души – мириады маленьких ангелов. Падает преграда Божьего гнева, устремляются они к милосердию Божьему.
Еще угрюмей и плотней становится мой век без мелких их страстей, грешков, цыплячьих попискиваний.
Тут начала иссякать глава одиннадцатая. Но нахлынула на нее десятая глава, подхватила и вдаль понесла. Снова передо мной перезревшая дева в веночке из незабудок. Снова подходит ко мне по полю цветущему. Снова руку протягивает. Я ей опять руку даю. Берет она мою руку и говорит: дай-ка я тебе погадаю. Откуда-то из воздуха достала она цветастую шаль – стала как цыганка.
Разглядела она мою руку и плюнула. Хорошо не на руку – на землю. И босой пяткой растерла. Нет у тебя судьбы, сказала, мой суженый. Ладонь твоя пуста. Жизни у тебя нет, ты в смерти родился. Иди обратно в могилу.
Этим тоскливым словом закончилась одиннадцатая глава. Началась глава двенадцатая.
Глава 12
Говорит жизнь, перезревшая девка в венчике из цветов: давай так с тобой поступим. Я колечко спрячу, а ты будешь его искать. Найдешь – твоей буду. А нет – ляжешь обратно в могилу.
Снимает она с пальца тонюсенькое золотое колечко. В травы его забрасывает. Гляжу я на эту дуру: это что ж, она и есть жизнь, для нее я оставил свой Лимб – окаменевшую свою гордыню, белый кипарис, что способен обернуться огненным ангелом? Это такой-то жизни я вышел навстречу, в кровь изодрав ангельские ладони?
Замкнулась могила. Уронила спящая дева в пустой фонтан последнюю капельку. Понеслись мне навстречу времена и пространства, раскрошились глыбы моего неподатливого времени. От всей сладкой моей смерти осталась в моем кулаке одна горсточка праха. Начал я искать золотое колечко.
Под каждой травинкой его искал, в чашечке каждого цветка. А вся поляна в цветах. Желтеньких таких, вроде куриной слепоты. Нет нигде колечка. А жизнь, гнилозубая дура, нарумяненная вся, стоит тут же и смеется. Бросил я ей тогда в глаза горсточку праха. Стала она глаза тереть, слезы со слюнями по лицу размазывать.
А я гляжу – вся поляна в могильных холмиках. Нет, не ту ладонь мне подставил ангел. Не в ту ранку я протиснулся. Не той жизни вышел встреч. Не иссяк мой фонтан, не истек мой век. Камень еще крепок. Строен еще мой кипарис.
Повернулся я к жизни спиной и снова обрел мой Лимб, дворец с сотней комнат, где сколько ни ищи меня, не отыщешь. Так же я в нем затерялся, как золотое колечко среди желтых цветов.
Так печально закончилась двенадцатая глава. Но началась глава тринадцатая.
Глава 13
Сказал мне как-то светлый мой ангел: невнятны мне твои слова. Сам-то ты их понимаешь? И ответил я ему: слова мои не слова вовсе. Ты светел, а их смысл утоплен в ночи. Лежат они на дне морском, в воде черной, как деготь. В ларчике они заперты, а ключик потерян.
Слова мои не слова вовсе, а шаманский бубен. Выложены они вперед, как вешки, как камешки. И я по ним иду вдаль. А дальше всех та дорога, которой не знает идущий. Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идет и зачем. А я хоть знаю, откуда – из мрачной моей долины, из моей смерти.
Тут снова ангел обернулся белым кипарисом.
Глянул я как-то в окно своего дворца. Гляжу – сидит человек под белым кипарисом. Не тень, а плотен. Свет через него не проходит, и не видны через него соседние перелески.
Во власяницу он одет. В руке его посох. Сидит он и кончиком посоха разгребает кучу золы. Моя ведь долина, как свалка. Свозят сюда пепел со всех погребальных костров. Там и сям пепельные кучки. Ветер по долине разносит пепел. Оттого земля здесь вся серая.