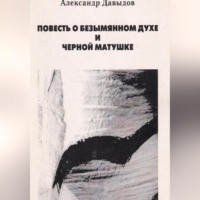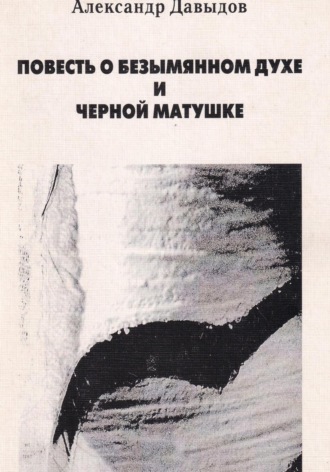
Полная версия
Повесть о безымянном духе и черной матушке
– Вон, погляди, – скажет проснувшийся в ночи витающему в воздухе голубому призраку, – выгибается голубая брусчатка. Ибо почва под ней некрепка, она зыбится тайно. То проснулась пустыня.
Выгнутся тогда мостовые, закачаются колоколенки, тренькая колоколами, как бубенчиками. То проснулась матерь наша – вечная пустыня, вымечтанная сынами воздуха.
И вот раскачиваться начнет мир туда-сюда. Поскрипывать будет люлька, подвешенная к звезде. Припорошит пустыня глаза людей своим песком, и они уснут.
И я подумал: окажутся люди в пустыне. Обретут они легкокрылую судьбу детей воздуха. Станет каждый творцом и каждый гением. И разомкнутся угрюмые будни, до всего будет рукой подать.
Сидел я на верхушке бархана и так думал. И я подумал еще. Подумал, что будет их сон глубок. И пуст он будет, и высок, и бездонен. И придет в тот сон легкими шагами – и что было, и что будет, и то, чего нет в этом мире, не будет и не было. Но только все преображено будет в волшебной ночи. Все неузнаваемо и странно. И будет не к кому воззвать из глубины своего сна, когда предан ты земным страстям и порывам к свету.
И вот тогда придут к тебе в сон, в истинное пространство бытия, родные тебе души, что навечно канули в небо. И ты будешь разговаривать с ними. Они тебе расскажут, что могут, но будут утоплены в ночи концы их слов. И ты вынырнешь в день, ничего не поняв. Но вся твоя жизнь будет тому разгадкой.
Я подумал: некому молиться в глубинах ночи, черны там небеса. Там непобедимы твои страсти. Только днем ты все отмолишь. Шарахнутся тени от утреннего луча, и день тебя всего выбелит. Останется лишь дымка сна в твоих глазах. И оттого таинственными будут дали.
Так я думал, глядя, как хиреет пустыня. Как смеркается мой сон, сон мой про ангела, который был мной. И сон был, как все сны, нелеп, и был он странен. И вещим он был, как все сны.
Здесь конец главы сорок девятой. Началась пятидесятая глава.
Глава 50
Я подумал, что узка ночь – черная жемчужина. И подумал я, что тесно в ночи своевольным снам. Вот они на цыпочках уходят в мир, и там они прячутся в каждом темном закоулке. Узок сон, а сновидения просторны. Переполнена чаша сна, и сновиденья плещут через край. В жизнь они текут, воды те точат явь. Как притаившаяся змея, тревожат будни.
И взлетел я над пустыней. Сел на высокую горку, каменный пик, земной зуб, зуб ее мудрости. И я глядел оттуда на пустыню и непустынный мир. Увидел я, что то и это – стало одним, уже нет проведенной моим мечом границы. И нет уж границы между жизнью и смертью, между жизнью и мыслью. Нет различья между землей и небесами. Пришли на землю небеса, и земля ушла в небо.
И я сказал: мир полон снами, правда сна царит в мире – воля наших свободных страстей. А затем нашим снам мир станет не в пору, тогда раскатятся царства детскими кубиками. И воплотится в нем невоплотившееся, в этом чужом нам мире. Зато он родной нашим снам. Время копить сны, время снам сбываться.
И ночь тогда пришла в пустыню, что до того не бывало. Пришла она из непустынного мира, крылья свои вверху распростерла. Ведь нет уж мира иного, чем пустыня. Ведь стал тот мир еще загадочней пустыни, еще напряженней и глубже. Смотрел я внутри новорожденной ночи – обнявшись, как влюбленные, парят среди звезд и легкие виденья детей воздуха, и страстные демоны будней.
И полна была ночь детского плача, ибо стала жизнь невиданно огромна. Сияло внизу озеро слез небесных. Капали в него капли редким дождиком.
Некому молиться в глухой ночи, из самой бездны сна. Но вся она, эта бездна – молитва.
А потом ночь прошла, пришло снова утро. Тогда и закончилась глава пятидесятая. Началась пятьдесят первая.
Глава 51
Крылья мои окрепли, и я поднялся выше туч. Ох, и хилой же стала моя пустыня, просто кусок дерьма. Там и сям – проплешины. Ушел из нее тревожный покой, а вместе с ним все величие пустыни. Я, тучи пронзив крылом, выше туч поднялся, и увидел я, что стал невеличав пустынный мир. Зато величье пустыни утекло все в непустынный мир, и стал тот велик. Серьезными стали его страсти, и подлинным – добро. Страшны стали его угрозы, и бесконечна – милость. Бушевали страсти в непустынном мире, ставшем пустыней.
Спустился я тогда с неба на горный пик. И налетели отовсюду дети воздуха. Уж иными они стали – не мошкара, а опять белы ликом. Одеты все в атлас и шелк – полыхают синим, зеленым и красным. Они тоже на мир посмотрели – испугались они земных безумств, но и тянуло их в пустыню неистово.
Отвели они тогда взгляд от мира, вознесли его в небеса. А в небе тогда собиралась гроза, ведь, как не стало пустыни, не стало над ней и синего неба. Обступили горку нашу тучи. Шелковые наряды ангелов, как драгоценности, на сером переливались. Они вышли, как на праздник, а небеса грозны, и грозны земные страсти. Те внизу – бурлят и клокочут.
И среди багровых страстей только одно внизу голое место, махонькое, как младенческая ладошка. На том месте три пустынных старца присели. Рушник они положили на землю. Там положили хлеба по ломтю, а воду они в горсти держали.
А рядом рос куст. И пылал тот куст легким пламенем, все не сгорая. Язычок огня к небу тянулся. Вот он и весь жар пустыни. Остальное же – холодное стало, как заледенело.
Ели старцы хлеб, водой его запивая. Сами-то сыны воздуха питались одной манной небесной. Подсыхали облака от солнца, становились они хрупкими и ломкими. А затем, сталкиваясь, крошились крошками и осыпали пустыню, как снег, безвкусные, едва медвяные.
И сказал сынам воздуха. Но то в главе пятьдесят второй, ибо нет уже главы пятьдесят первой.
Глава 52
Я сказал сынам воздуха: пустой и величавой стала жизнь, которая внизу. И теперь уже нет нужды в вымечтанной нами пустыне. Нет нужды и нам хранить пустыню. Там, внизу, поглядите – все стали крылаты. Вон там, глядите, внизу порхают дети века сего, как эльфы, перелетают они с цветка на цветок. Порхают они среди страстей земных, летят они от одной к другой страсти, как бабочки летят на огонь. Неведомые им чувства им в крылья поддувают, и так они летят. Все они стали младенцы и преданы дословесным страстям. Нет у них слов молитвы, но сами они – молитва.
И я сказал: а мы же выросли, братья мои, сыны воздуха, вызрели мы в своей смерти, в небесах и в пустыне. Истекла пустыня по песчинке, и нет уже песка. Обжили мы время, как пространство. Прожили мы миг за мигом всю пустыню, как пятерней ее обмеряли. Уж не дети мы, сыны воздуха. Оставим нижнее поднебесье, ведь сыны века сего станут новыми ангелами.
И я сказал: вышли мы встреч жизни, но ее не повстречали. Потому нечего нам оставить детям века сего. Разве что след ангельского крыла, оттиснутый в небе. След, тот же самый, впечатанный в тяжкие скрижали – сны, которые мы навевали детям века сего своими крыльями.
А меня спросил сын воздуха. Стоял он, одетый в багрянец, и словно ветер его одежду развевал, но – каменный ветер, который ничего шелохнуть не в силах. Куда идти нам сейчас, куда нам теперь лететь? Так он меня спросил.
И тогда закончилась глава пятьдесят вторая. Началась пятьдесят третья глава.
Глава 53
И вот спросил меня летучий братец, куда идти нам от бурлящей сном земли.
И я сказал: не к детям нам идти и не за детьми. Тихим шагом уйдем мы от чужих снов. Мы уйдем в сон неведомый, не расказанный еще. В тот, который ничего не символ, ничего не знак. Который только он сам и во веки веков.
Стояли передо мной летучие братцы. Они меня слушали. А я им еще сказал: пойдем мы не за детьми, а за старцами. Глядите вон: там, внизу, на земной проплешине, они уж трапезу закончили, смахнув хлебные крошки с подолов. Из горстей они попили, маленькую одну капельку отдав песку, которого уж и нет почти на земле. Ветер последние горстки повсюду разносит.
Стояли передо мной братцы и слушали. Крыльями не взмахнув, не шелохнувшись, стояли. Одежды их были раздуты каменным ветром. А потом встали старцы с земли, раскидали последние крошки птицам. И стали они потом подниматься в небо.
Не крыльями возноситься, а подниматься по воздуху, как по лесенке. Так шаг за шагом они шли. Тут небеса раздались, и весь воздух стал светел. И пришли к сынам воздуха слова небесные. Загомонили они, загулькали, стали говорить невнятные им слова. И слова те к небу поднялись, взлетели превыше туч.
И тогда вдруг видят сыны воздуха, как спустилась с небес лестничка. Мы на нее ступили и пошли вверх вслед за старцами, тоже мы пошли шаг за шагом в небо. И так все выше и выше уходили. Идем мы все выше и выше. А впереди старцы идут. Пятки у них все в мозолях. А каждая ступенька лестницы, ох, как остра. Идут они – каждая ступенька впечатывает им в ступню кровавый шрам. Вот так они идут. С пяток их кровь капает, нам одежды марает, стекает по крыльям. А потом капает она на землю, и там из крови той вырастают цветы.
А мы за ними легко идем, ведь нет у нас тяжести. И кровь из нас не прольется – одна сукровица. Ведь те старцы живы, а мы – собой выдуманы. Они – жизнь сама, а мы тем старцам приснились.
Вот идем мы, вверх идем, шаг за шагом. Один сын воздуха идет – он светел. За ним – в небе почти не виден, он голубого цвета. Другой, за тем – зеленый, как земная зелень. А за тем идет ангел, который красен. А за ним уж я иду, и сам не знаю каков. Так гуськом мы идем, и шли мы долго. Скорбь была в сердце нашем, а лица – веселы. Ведь идем мы в небо.
И вот уж дошли мы до прежнего поднебесья. Хотел я крыльями махнуть, но не подняли меня крылья. Поскользнулся я на ступеньке и чуть вниз не упал. Те братцы, что за мной шли, меня своими руками поддержали. И тогда дальше мы пошли в пустыню небесную от земных пустынь.
И вот уже в самые небеса вошли, в синее вошли по пояс. Нахлебались мы синевы небесной. И тайна, что все мы внутри себя несли, как черную бусинку, почти уж и не мучила нас. Стала не так она черна, но она вовсе не исчезла. И тогда ущербная наша свобода расправила крылья, но никуда не упорхнула от нас, на ладони осталась.
А старцы наши совсем ушли от нас ввысь и там пропали. Только кровь по капельке капала на наши крылья. И мы все выше шли.
Тут конец главе пятьдесят третьей. Началась глава пятьдесят четвертая.
Глава 54
Так шли мы молча, и небо молчало. Слово, может, и дрянь, но тяжко без него совсем. И небесная музыка не звучала. Верней, звучала, но так была тиха, что нам не слышна. И вот тогда запел песню ангел, который синего цвета. Запел он песню неба, и ее звук был сладок. Тогда запел песню ангел, который зеленого цвета. То была песня земли, и ее звук был нежен. Потом и красный ангел запел песню. И страстен был ее звук. Тут и мы, другие, подтянули вразнобой, кто как умеет. Поднимались мы вверх – ступенька за ступенькой – и пели. То громче пели, то вдруг пели тише. И разное наше пенье стало хором. И само оно славило то, что превыше нас, – тайну небес, в которую мы уходили.
И перед тем, как войти в небо, свесился я с лестнички, наклонился к земле и сказал: каждый, кто творит, жаждет Евангелия, а может создать лишь апокриф. Могут быть его образы могучи, но нет в них простоты и нет несомненности, которая только у одной истины.
И еще я сказал: и все письмо мира, друзья мои, это одни апокрифы. Красиво они переливаются на солнце осколками единой истины, сложенными в красивый узор. Солнце на нем играет, и кажется, будто он живой.
И я сказал еще: а может, и сам мир – всего лишь апокриф. Он красив, могуч и богат. Всего в нем вдоволь, чтоб наслаждаться и мучиться. И в нем простор для всего возможного. Гордецам не под силу Евангелие.
Тут ветер подул, заколыхалась лестничка, я чуть вниз не упал – туда, где шелестели страницами распахнутые апокрифы. Но я за ступеньки руками ухватился и пошел вверх, где сияло Евангелие. И были узеньки его врата. Тут конец главе пятьдесят четвертой. И Началась пятьдесят пятая глава.
Глава 55
И успел я сказать еще слова прежде, чем совсем ушел в небо: удивительны пространства нашего неуютного мира. Тот мир и есть странность, он и есть чуждость, а небеса просты и всем родные. Жизнь на земле странна. Смерть же – не глубже жизни. И она всем чужая.
Зажать бы тот мир земли, – сказал я, – в кулачке, чтоб он стал мал. Слить бы все апокрифы в одно Евангелие. И малый тот мир протиснуть в ранку на ладонях ангела.
Затем я посмотрел наверх. И увидел я, как входит в облака ангел, который зелен. Потом тот, что голубого цвета, сам стал небом и облаком. И красный ангел, полыхнув одеждой, вошел в небо. Я один остался на лестнице. Ветер ее раскачивал. Поскрипывала она, как подвешенная к земле люлька. И притягивала меня земля, и тянуло меня в небо. И я не знал, что делать. Тогда я сказал: главное в мире земли не разнообразие его и не заманчивость, не крошки маковой дури – а обреченность его, зерно смерти. И еще я сказал на самый конец. Я сказал: апокриф не веселит душу, а он только тревожит. Предадимся же на волю рождающегося Евангелия. И вот так сказав, я ступил в небо и пошел уже в небе. Был мой путь вечен.
Тут конец главы пятьдесят пятой. Началась пятьдесят шестая.
Глава 56
А что ж, – ты спросишь меня, – после нас осталось? Небо, вон, осталось, перепаханное нашими крыльями из конца в конец. Оно влажно, там живут дожди. А значит – ожидай урожая. Поднимутся страсти людские к небу, и там они будут посеяны, как семена. Что-нибудь, глядишь, там и вырастет. А нет, так привидится, померещится.
Сами мы ушли, но пространство своей мечты мы не унесли с собой, а там, глядишь, потом что-нибудь обживется. Все ведь внизу стали ангелы, все творцы и все дети. У всех сон животворящ, и смертелен. Те, что родились сейчас, поднимутся еще по лестничке. И там, в небе, мы все обретем друг друга. И родные души ушедших прежде, спустятся с луны. Мы будем и с ними вместе. И не будет тогда слов, а будет одна музыка.
А что ж, ты меня спросишь, потом было с землей, где каждый стал ангелом, бабочкой, эльфом? То – загадка и тайна. Да и молчит о том мой сон. Сон ведь и есть сон, что с него взять. Прозорлив он бывает? Да, бывает. Вот только где и когда… Что в нем и прозорливо, а что шелуха? Где в нем смрадно дышат бездны, а где живут небеса?
Много в нем морока и лишнего. Тянется образ сна к своему сокровенному, но, не дотянувшись, виснет в просторе. А то еще подхватит его небесный дракон, унесет в замок на горе и там его укроет. И будет томиться он там век.
И вот последнее, что я увидел, уходя в небо: летит Земля, голубая жемчужина. Объяло ее голубое же небо. И лелеет ее, как дитятю. А на ней живут младенцы, эльфы и ангелы. И тут сон оборвался, как кинолента.
Конец главы пятьдесят шестой. И начинается глава пятьдесят седьмая. Она последняя.
Глава 57
Вот такой мне был сон про ангела. Странен и прихотлив, но не больше, чем другие сны. Он не как река тек, а все раскачивался, самому себе вторя. Он как море и как любой из снов. Напитан он временем, от него промок. Временем, когда гибнуть царствам и взрастать новому.
Пытался я его толковать так и сяк, но никак не получилось. О чем он, собственно? Да ни о чем. Случаются сны поживей – со страстями, с кровью, с чудесно преображенными буднями, со страхом, с похотью. А того нет в моем сне про ангела. Просто что-то примерещилось. Прозрачный образ, взмах крыла. А потом опрокинешься в пустую ночь, и все тут.
И здесь конец.
1990-1993
УСУС,
СИРЕЧЬ МЕДВЕДЬ
1. Как-то я проснулся и не знал, где я. Это б еще полбеды, если б я знал, кто я. Лежу, должно быть, в какой-то дыре. Глаз мой, если он есть еще, обращен внутрь. А там тьма египетская. Только лишь попахивает некой тайной, как ладаном напополам с лесной гнилью. Сам я мал, так что памяти во мне тесно, и ее нету. Мыслей – с гулькин нос. Так что я буду ставить на них номера, как лесник нумерует лесные деревья, чтоб не перепутались.
2. Такой вот переплет. Не знаю даже, могу ли я говорить и слышать. Откуда ж мне знать? Не знаю, человек ли я, зверь или, может, иное. Чувства смерзлись, страсти дремлют. Память, как отшибло. Так, должно быть, зерно лежит в земле, прошлое и будущее скукожив в малейшую малость.
3. И все ж я нечто осязаю – вот что-то в бок мне тычет. А коль так, потом обнаружится и зренье. Оно ж не более, как пророчество тела, невнятно, как любое пророчество, так же темно. Припомнить бы, каков я был прежде. Были, должно быть, у меня глаза. Махонькие такие, суетливые и блестели, как пара бусин. Верно уж, тогда спознались они с зеркалами. Ловили мой образ и возвращали его зеркалам. И раз, вероятно, не поймали. Тогда взлетел он в небеса и стал созвездием, вроде большой медведицы. А может, малой.
4. Мысль моя пряма, летит во тьме, как луч, или, верней, прет, как медведь по бурелому. А то вдруг становится извилиста, завивается в петли. Тогда парят во мраке мои мысли, как разноцветные струи. И взлетают ввысь и вяжутся в петли. А потом вдруг выпадают росой на черный бархат, мерцают на нем, как алмазы. А потом рассыпятся со звонким цокотом, и я их потеряю.
5. Ах, как же я мал. Так мал, что мысли во мне не поделиться на слова, не разветвиться, не разрастись, как дереву, не раскинуть вверху ветви, чтоб сквозь них светили небеса. Не запустить в глубину земли свой корень. Нет, они скорей, как семечко, в котором зачаток и возможность всего, что будет, и чего не будет никогда. Там же прошлое, но не в образе, а в тьме кромешной. Теперь дальше.
6. Путаюсь я в себе, как в паре сосен. В душе-то моей лесная чаша, где ветер свистит в деревах, и ухают ночные птицы. Слова выходят из темени одно за другим, как ночные волки, и воют на луну, которая царица ночи и колдунья. Однако ж во мне тесно словам, и они слипаются в ком, который, как сгусток мокроты в бронхах. Сипят, хрипят, темны, как лес. Ты что-нибудь понял? Я, так ничего.
7. Я мал, тело же мое велико. Оно для меня вселенная. Я в нем заключен, я в нем узник, и я его не знаю. Может, в чужое тело залетела искра блуждающего духа, и жить мне теперь вовек в чуждом мне, выискивать в нем родное, обшаривая все закоулки, в вонючих кишках и смердящих яичниках. Бр-р, страх-то какой.
8. Для прежнего я уж умер, но пока не родился в будущем, свернут в комок и заброшен в неизвестный край. Так-то, мой милый. Тебе того не пожелаю. Я, как ребенок, брошенный на опушке леса, там, где грань чащи, которая тайна, и полей, над которыми парят небеса. Покорятся ли мне звери лесные, выкормит ли меня волчица горьким своим молоком?
9. Так я думал и сам себя не понимал. Вилась моя мысль, скользя меж словами, как ядовитая змейка. И слова были странны, и мысль невнятна. И я сам, как младенец мог только лепетать и агукать. Сам я себя не знал. Кто ж я такой? Так я думал. Может я цветок, может дерево, притаившееся в семени? Может я камень? Может зверь лесной? Может, крот, плутающий в земле?
10. Возможно, я и человек. Там где я был, мысль предполагалась лишь в человеке. Однако ж, может быть, тут иные пространства. Возможно, здесь одухотворен как раз зверь, а человек туп. Может, зверь здесь истинно жив, человек же мертв и только думает, что живет. Может, в здешнем просторе и нет памяти. И все, что тут есть, живет всегдашним сейчас. Может, тут и нет ничего, кроме этой вот темени и мысли хрипящей в бронхах.
11. И тут вдруг почувствовал я свое тело, и то, что оно мне подвластно. Язык мой был длинен и шершав, горяч, как адское пламя. Провел я им по носу, размазав сопли по всей своей морде. И тут я почуял запахи. Витали они вокруг носа и были отнюдь не благовонны. Смердело в моем склепе сладковатой вонью.
12. Кто ж тут гниет? Хорошо б не я. Ведь то, может, могила и я в ней мертвец. Может то и есть смерть, когда лежишь во тьме кромешной, и память лишь высыхающие капли росы? Что мы о смерти знаем?
13. Может, я и есть мертвец. Впрочем, мертвец случайный. То есть, конечно, случайной была моя смерть. Такой мертвец неутолен, еще полон жизнью. Его смерть неполна и некромешна. Он полон страстей. Во мне, однако ж, страсти нет. Так, ошметки, пятна, даже не красные, цвета ярости, а розоватые, вовсе они не кровавы, не разрастутся в свирепость, не подвигнут меня встать из моей могилы.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.