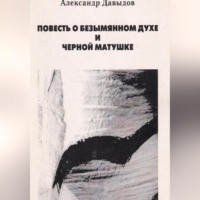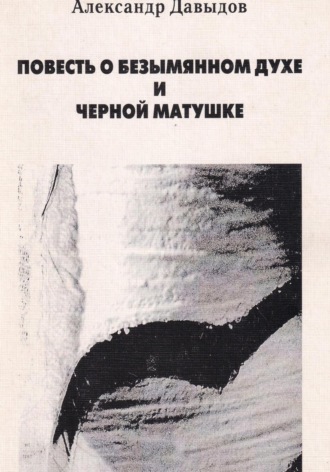
Полная версия
Повесть о безымянном духе и черной матушке
Глава 37
И сказал он мне: ищешь ты всегда праздники. Вместо праздника смерти получил ты полет и его бездумную легкость. Вышел ли ты тем встреч жизни? В самом ли деле поднялся выше, когда взлетел? Выйдешь ты навстречу жизни, когда плюхнешься в будни. То и будет восхождением вверх.
Пространства твои, все равно жизни твоей или смерти, и не пространства вовсе. Не простор, а твоя иссушенная мысль, небогатая твоя душа, не ведающая о Великом Виночерпии. Жил ты не в жизни, а в одних символах. Настоящее твое лишь символ того, что было, того, что будет. И та вечная твоя смерть не более твоей окаменевшей мысли. И небеса твои не для взлета, а для порханья.
И подумал я: и вот расточил я свою мысль, и стала – пустыня. И оглядел я пески. Не устремлялась пустыня никуда. Не рекой была, а раскачивалась, как море. Поскрипывала моя люлька, подвешенная в пространствах. То была не тайна цели, а тайна покоя и затишья.
И тут вырос путник. Головой небо достал, а ноги его ушли в песок от его тяжести. И корчился он, как если бы поджаривали его пятки на подземном огне.
И кричал он такие слова. Говорил: сгорим мы, да, в печи огненной. К небесам возгорим. И чада мои, и домочадцы. По свету я плутал, и вот пришел я в просторы твоей мысли. Костер разложили вы, черные ангелы. А жертва, где она? Не тела же ваши, без плоти. А сухая ваша мысль – словно сухие полешки. Подбросишь их в огонь – весело они полыхнут. Но пламя будет сухим, без живой вони и смрада.
Так говорил путник. И еще он сказал: по череде будней пришли мы в твою пустыню. Пришли во плоти, а не одной мыслью. Вот пришли мы, и плоть свою принесли. На костер возляжем.
Так говорил он, и бурчало его могучее чрево. А потом он снова сделался мал.
И он сказал: что грозишь ты мне своей пустыней, черный ангел? Знаю ведь, что пески настойчивы и дух ваш неукротим. Неумолимо протянется та пустыня на восток и на запад. Заберут медленные пески у детей века сего их города и веси. Пустыня будет царить в мире. И витать над ней Божий гнев.
А что мне земля, он сказал. Нет у меня земли. Вон, гляди, горсть одна. Раскрыл он руку и показал горстку праха.
Тут закончилась глава тридцать седьмая. Началась тридцать восьмая глава.
Глава 38
Хотел я ответить ему, но застряло слово в гортани, как вишневая косточка, и я молчал. А он был в суете, в каком-то раже свою кудрявую голову вскидывал, руки тянул к небесам. И он говорил: знай, черный ангел, что раскинем мы пестрые шатры средь наших скучных песков. И мы своей смертностью обременим ваши души. Не крылья ваши, не ваша мысль, а жалость к нам вознесет вас превыше ваших прежних высот. Вместе войдем мы в мир слаще пустыни, слаще каменной вашей смерти и легких высот. Не выстрадали мы – то все выстрадано за нас.
Подумал я, стоя перед тем путником, что нет у меня сил идти встреч жизни. Что, может, это она сама вышла мне навстречу. И я ей протяну свою тоску, как засохший цветок, что завял между страниц непрочитанной книги. И будем мы с жизнью повенчаны.
Уже криком кричал безумный странник. Пальцем он махал перед моим носом. Нежно блеяли его барашки. Женщины его рода колыхались среди желтых барханов, как присевшая на пески стая птиц. И тут взлетели ввысь почерневшие сыны воздуха. Они сны навевали своими темными крыльями на беззащитных детей века сего. Махали они крыльями, как птицы. Взвихрили они и подняли пустынные пески. Припорошил песок глаза тем людям. Разбрелись по шатрам смуглые женщины, звякая в сумерках звонкими браслетами. Детский гомон умолк.
Лишь смахнул песок с ресниц вечный путник. И стали его глаза, как родник, чисты. И в его глазах я увидел себя впервые. Наши небесные выси не отвергали ничего, все принимали благодарно. А в долине нашей так были беспечны воды, что ничего не хранили, как детская память. Тоже и озерцо слез небесных, которые и есть детские слезинки.
В глазах того увидел я себя, грозного ангела, крылья раскинувшего крестом. Подивился я отваге того путника, отчаянной его тяге к моей пустыне. Смиренно опустил я крылья, всю пустыню ими укрыл. И закопошились в моем подшерстке миги истинного времени, как блохи. И я подумал, что я – хранитель времени, пустынный дух. Позабытый дух, до которого нет никому дела. И мне нет дела ни до кого.
И я подумал: был я камнем, умел покрывать твердой оболочкой любой миг. Делать его единственным и драгоценным. Каждый миг для меня, – драгоценный, замкнутый и округлый, – и есть мой Лимб, мои выси и моя пустыня. Равен каждый вселенной. Не выбраться ни из единого, как нет выхода из округлого пространства, где конец неотличим от начала. Нет там верха и низа. Не прям ни один путь.
А тот сказал: гляди мне в глаза, черный ангел. И черный ангел явится в моих глазах – тот, кто поселился издавна в ночных глубинах моей души. Впервые ты с собой встретился на блестящей радужке моих глаз, как мы с тобой встретились на краю пустыни. В поколеньях наших скопилась земная горечь, слезы небес прожгли насквозь наши души.
И я сказал вслух: неужель и в земных путях столько же горечи, как в надземных высях?
А он сказал: Ты говоришь мне, чтобы поворотил я назад, но что за спиной? Ровные ряды могильных холмов, череда погребальных курганов. Толкает меня в спину все отчаянье моих предков, тоска визгливых погребальных плачей. Вижу я только землю, вспученную мрачными курганами. Ведь поселился в моих глазах черный ангел.
Так он сказал. А был он вонючий пастух, почти нагой. Опирался он на крючковатый посох.
Так закончилась глава тридцать восьмая. Началась тридцать девятая глава.
Глава 39
Оставь себе, он сказал невысокий полет. Он, как легкий, таинственный оттиск на тяжелых скрижалях, след от ангельского крыла на земном камне. Влечь мне и роду моему каменные глыбы по пустыне времени, к уходящему горизонту. Дай мне войти в твою пустыню, черный ангел. Меня жаждет выстраданная тобой пустыня. Меня, от века устремленного к смерти. Подгляди-ка: вокруг пылают кусты Божьим гневом и Милосердием Божьим.
Взглянул я на пустыню. Ни единый куст не пылал. И вовсе там не росли кусты. Песок один был без конца и края. И черные мои братцы летают, как мошки.
И он сказал: взгляни в небеса, ангел. Сплетаются образы небесные в единый лик, благой и грозный.
Взглянул я в небо и лика там не увидел, ни тучки ни единой, ни облака. Синь-синева одна, пространство отвергнутого мной полета.
На колени пал смуглый путник. Тот, кто нарушил мир моей пустыни верещаньем своих несмазанных кибиток. Руки он тянул к пустому небу, измеренному взмахами моих крыльев. И на зов его, как пот, проступила на моей коже моя темная, сокровенная жизнь Излился мой сон в запустенье его сна.
Взял я тогда горсть песка, в его глаза бросил. И его сверкающие глаза замутились. Стал там мой образ маленькой точкой, а потом он совсем пропал, спрятался в сумерках его души. Прилег на песок вечный странник и заснул наконец.
И тут ожила пустыня без людского глаза. Только сынам света, застенчивая, она дарила свою красоту. Пески играли, как морская рябь, малые смерчики вились по песку желтыми змейками. Ею очарованные, глядели на нее сыны воздуха. Лица их и одежда становились белы.
Тут конец главе тридцать девятой. Началась сороковая глава.
Глава 40
Спал на песке курчавый пастух. Откликнулась моя душа на зов пустых пространств его ночи. И теперь уж я вошел в его сон. Лежал он на песке, и шел от него пар. Это его сновиденья вокруг него витали.
И вот что снилось страннику. Что сдавил он черного ангела своими руками. У того-то руки были слабы, но сильны крылья. До рассвета они бились, и так ночь за ночью. Потом, пришла ночь, сломал он ангелу бедро. И тот убрел в пески, припадая на ногу, ни единого следа он не оставил.
Теперь раскинулась перед пастухом пустыня – вольна и таинственна. Ни единого следа, все песок затянул. Только прозрачные сыны неба перелетают с куста на куст, как эльфы. Там и сям в пустыне озерца небесных слез. Горьки они, солоны, не один город в них канул. Спину его ломило от нежных объятий ангела, будто они и сейчас нерасторжимы. Словно сплелась тоска небесная с земной тоской.
И проснувшись утром, увидел странник, что стоит перед ним каменный ангел. Полет его замер. Сокровенная жизнь сквозь поры не сочится. Говорил мне путник, руки ко мне простирал, но был я словно мертв. Только в сумерки моей души проникло его слово.
Тогда пошел странник в глубь пустыни. И за ним потянулись его пестрые шатры. Верещали несмазанные оси телег, женщины позвякивали браслетами на запястьях. Дети гомонили, блеяли бараны. И ветер летел за ним, заметал следы. Ушел странник в пустыню и там пропал. А я стоял каменный, как сам себе памятник. Запечатлен был я навек. А тот был – только быстрый промельк жизни. Ушел он в пески и навсегда пропал. Тут закончилась сороковая глава. Началась сорок первая.
Глава 41
И вот, когда ушел курчавый странник и канул он в пески, стала подлинно пуста пустыня. В пустоте своей была она совершенна. Совершенна в своем затишье. А я диким стал и почернел, как негр. Как некая птица, летал я от бархана к бархану. А за мной – мои братцы стаей. Они стали мелкими, как мошки.
Никто не тревожил наш покой из непустынного мира. Обходил пустыню всякий. Одни вонючие козлы забредали, звеня бубенчиками. То была жертва мира пустынным духам, моим черным братцам. Копила моя пустыня свой жгучий яд, вселенскую отраву. Бурлил поверху Божий гнев, милосердье укрыв в сердцевине. В небо я смотрел по вечерам и утрам. Не было там лика, который угадал курчавый странник. И не к кому было воззвать из бездны. И кусты в моей пустыне не пылали.
Суровая была жизнь, угрюмая, как выглядывающие из песков кончики скал. Такая же жесткая и колкая. Жаркая, как пустынный ветер. Медленная, как неторопливые барханы.
Медленно иссякала пустыня, по песчинке роняя в стеклянную горловину. Сделалась наша страсть, легкость наша и сокровенность – полудремотой. Устали мы песок сгребать в песчаную кучку, чтоб пустыня была пустыней, и цвел вне ее непустынный мир.
И сколь ни был я терпелив, я устал от пустыни. Но о том в сорок второй главе. Ибо иссякла глава сорок первая.
Глава 42
И вот что бывало, когда я уставал от пустыни. Взлетал я на своих крыльях, перепончатых, как у летучей мыши. Взмывал я вверх. То бывало ночью, и были спящими пески. И тогда я улетал в непустынный мир. Все там было мелко. Жизнь и вовсе какая-то муравьиная, припавшая к земле.
Городки были маленькими. Крошечными там, внизу, были домики, церковки, башенки. Люди, и вовсе почти невидимые, копошились, как вошки. Но все я различал с высот, ночью мое зрение становилось острей. Ведь не слепило меня уж весеннее солнце, смирялся Божий гнев. С луны стекал свет медвяный. И я становился бел, как призрак.
И вот так взлетал я и летел к непустынной жизни. Летел я, крыльями не шурша, парил без шороха над тихими городами. Заглядывал я в окна домов, прилепившись к карнизу клейкими лапками. Заглядывал я в земной уют. А потом падал камнем в веселье города. Щедр был я, темный ангел, дух пустыни. Я дарил подарки, ненужный хлам моего устремленного к смерти бытия. Я обучил людей картам, хиромантии и блуду. Прихрамывал я на ногу, покалеченную курчавым странником. И вместе с ватагой студентов срывали мы плащи с ночных прохожих. Ах, ты, моя милая ночь земная, пространство проказ, а не муки!
Но моя темная душа оставалась пустынна. Пузырилась земная радость, пузырилась, в воздух взлетали пузырьки. И там они лопались, как шутихи. Сердцевина души моей оставалась темна. Там была смерть, там была жизнь, и там была пустыня.
И вот я сам взмывал, облепленный пузырьками радости. Как черный голубь, который ночи не виден, я садился на острые шпили церквей. Приклеивался я липкими лапками и так долго сидел.
И сны вытекали из каждого городского оконца. Полупрозрачные, лунного цвета призраки парили над крышами. И я подумал, что вновь я там, куда истекают сны мира. Что вновь я среди видений, а не внутри жизни. И подумал я: что ж, я виноват, что пришел я тогда, когда жизнь мелка, в то невыносимо длящееся и цельное, как камень, время – время вызревания колоса?
Задремали творцы, и они безвольны. Виденья их творят новую жизнь. Виденья их созидают и рушат. Сами же они во сне. Сражается мир мечты с твердым камнем. Одолеет мечта твердый камень, раздробит его в песок и станет пустыня.
И звезды небесные перед моими глазами витали, как песчинки. Бледные девы ходили среди созвездий, собирали звезды себе на венок. Призрачный музыкант спрятался в ветках дерева. Он пиликал на скрипке, и была звуками полна ночь. Разыгрывала она великую симфонию ошибок и совпадений.
Тут конец главе сорок второй. Началась сорок третья глава.
Глава 43
И я сказал: неприкаянный дух, не ведал я мудрости века сего. Тут подул ветер, раздул мой плащ и прикрыл им небесные звезды. Плутали в ночи сны века сего. Друг сквозь друга пролетали, менялись именами. Заблудились они в ночи. Приклеивались они к моим цепким лапкам.
Сидел я на колком шпиле, где поместятся еще мириады ангелов. А я был один. Только гипсовые фигурки святых, одна за другой, всходили ввысь – поднимались они на купол небесную чашу.
И я сказал: слышу я в ночи, как зовет меня пустыня. Как стонет она, как она мается. Зов ее услышишь на самом дне и глубочайшего сна. Оттого стонут и мечутся дети века сего, заброшенные в свой уют, как я в звездное небо. Вся ночь та полна зовом пустыни. Только она, безводная, утолит жажду моего духа.
Так я это сказал высокопарным слогом и улетел в пустыню
Тут закончилась сорок третья глава. Началась глава сорок четвертая.
Глава 44
И я летел через ночь. Городки подо мной мелькали, как кичливо распустившие хвост павлины. Впивались храмы в небо шипами. И сны в вышине парили. И шепот молитвы истекал из каждого оконца – сокровенной ночной молитвы, когда отмаливаем мы грехи дня. Отмаливаем мы грехи дня самой светлой и легкокрылой из всех молитв.
И взлетают те под купол единственного храма. Перешептываются там, как стайка ангелов. Шушукаются ночные молитвы, меняются чистыми словами, обнимаются они, вторят друг другу. Шепотом полна ночь. Таинственна она, и она – матерь мира.
Но меня-то манит пустыня, где солнце навсегда приклеено к зениту. И оно Божий гнев. Только в той пустоши бурлить моей гордыне, только там рождаться моему смирению. Там, где смрадные козлы позвякивали своими бубенчиками. Где песок зыбучий. Ступишь на зыбучий песок, и пикнуть не успеешь, не скажешь молитву, как пропал, и нет тебя.
И вернулся я в пустыню и увидал, что так же замерло над ней зыбучее время. Оно так же пространственно и так же мертво, ни вперед, ни вспять оно не течет. А оно раскачивается, как барханы. И все пути там возвратны.
И я сказал: вот он, образ вечности, вечности моей, избранной мной и возлюбленной. Не колкий она шпиль, не запечатленный миг. А обживаемое, но все не обжитое пространство. Не пирамида оно, а сфинкс. Такова она, моя вечность. И я еще сказал: пустыня, она ловушка для обуянных гордыней ангелов. Прям был путь курчавого путника, того, что зачал историю в схватке с ангелом. Отчаянной была его жизнь, устремленная к смерти. Моя же не стремилась никуда, и в смерти, и в жизни пребывающая. Какая смерть во времени, ставшем пространством, какая там жизнь?..
Так я сказал. Потом подождал, пока стихнет эхо, и сказал еще: лечу я на крыльях, и тянет меня к земле тяжесть моего бессмертия. Тяжелей она каменных скрижалей. Я так сказал и в который раз уж подивился странности моих речей.
И тут проплыло надо мной облако. И оно сделалось драконом. Опустился дракон на пески. Одну песчинку он ухватил и потом опять улетел в небо.
Тогда я подумал: будет прилетать ко мне дракон и одну песчинку всякий раз с собой уносить. И вот как бы то ни было долго, но ведь закончится в пустыне песок. Не станет в ней песка, тогда обнажится вечная земная порода. Та, которой ангел и человек равно причастны.
И я подумал: замрет тогда время, но уже не песками, а скрижалями без единого знака. Только с легким оттиском ангелова крыла. Окаменеет мой полет, тоска станет вещью, твердой станет, как скала, и неподвижной немучительно.
И только я так подумал, вновь спустился с неба дракон. Лапами по песку заскреб. Когтями на нем сделал глубокие борозды. А потом стал лик его, – да не лик, а мерзкая его харя, – стал лик его изменяться. Стал он на моих глазах делаться девой, красоты невиданной. Кости драконовы трещали, жилы его рвались. Тщился он стать красотой.
И вот уж я к нему простирал руки. Коснуться его хотел. Но порвалась его кожа, слизью и сукровицей запузырилась. Завонял он, стал смраден. А потом кожа с него сползла, мясо расклевали птицы. Осталась одна голая кость.
И я подумал: примерещится же такая дрянь. Но не для одной красоты нет у нас слов, то же и для ужаса. Только сказки мы можем рассказывать нашим невыросшим душам.
Глядел я на обглоданный драконий костяк и думал: вот так и слезут с земли почвы. Будет один голый камень. И покатится он по вселенной, как тщета трудов.
И тут иссякла глава сорок четвертая. Началась сорок пятая глава.
Глава 45
И я подумал: прежде музыка не тянулась ввысь, ибо небеса были ниже. Нет, тянулась она ввысь – как мы протягиваем руку, чтоб достать низкий потолок. Теперь, же извиваясь, она рвется ввысь и еще подпрыгивает. А то и просто по земле стелется.
И подумав так, я забыл о музыке, ведь пустыня была тиха. И еще я подумал: нет величья в непустынном мире, где жизнь мелка. Прежде-то была она так сильна, что вступала в схватку с ангелами. И жили – та и эта – нераздельно, в схватке своей и в любви стиснув друг друга. Теперь меж ними граница, что и не переступишь.
И все ж, я подумал, прорастет пустыня в веке этом. Прислушайся – и услышишь ее медленное вызревание. Взмахнем мы с братцами все разом крылами. Начнется тогда наступленье песков. Перейдут пески ту границу, где повздорили мы с кучерявым путником. То мы выйдем встреч жизни. И пустыню принесем на своих крыльях. Придет в мир тяжелое усилие нашей свободы. Падут империи, похоронив под собой мечты поколений. Детские наши мечты тех времен, когда каждый из нас ангел и каждый своеволен, они воцарятся в мире. И обретет он, хоть на миг единый, кровавую свободу.
Ужасной будет та мечта, что мы вымечтали, когда любой был вольный ангел, столь беззаботный, что забывал он воззвать к небесам. К кому же и воззвать из бездны ранних лет? Голос, чистый, будто колокольчик, облетит хрустальный купол и пустую еще землю, и сам же себе отзовется. Не справиться миру с детской мечтой. Как, если она – до слова? Вот тогда и погибать царствам, раскинуться пустыне из конца в конец. Там другая жизнь и родится.
Я сказал: вышел я встреч жизни и уперся я в самое ее начало. Нет пути дальше. Прислушайтесь к темному ангелу.
Тут конец сорок пятой главе. Началась сорок шестая.
Глава 46
И вот непустынная жизнь сделалась плоха. И я ждал уже, что в пустыню мою станут приходить люди. Хоть она и пуста, но все же проще и внятней мира. И тогда, думал я, отброшу я огненный меч, дам им войти в мои ранки. Не стисну их в объятьях, а просто пущу в пустыню. Открытой она для всех стала, распахнутой на одной из страниц, как ненаписанная книга. Только ветер ее чистые листы перелистывает. Чего туда не впиши, как ветер подует – сразу опять чистый лист. Ни страсть, ни мысль свою там не оттиснешь. Будет лист всегда бел.
И вот гляжу я с верхушки бархана: три старца по моему белому листу идут. Идут друг за другом вслед, а не рядом. Выбирают путь, словно идут по тропинке. А тропинок ведь нет в пустыне. И словно белое облако над головами вьется то их седые волосы. Будто дым костра курится.
Идут они легко, почти и не касаясь песка ступнями, но все ж касаясь слегка. А взор их, мне показалось, словно клок грозовой тучи, там отразился и потом застыл. И я слетел со своего бархана, им в глаза заглянул. Только тогда и понял, что их взор не суров, а весь вперен в небо, глаза под веки зашли, и сияют вперед одни бельма. Таковы были старцы.
Встал я перед ними – встрепанный ангел, с глазами, обведенными бессонницей. Но старцы, бормоча нечто, беззвучно бурча себе под нос, сквозь ангела пришли и дальше идут. Тогда я вновь перед ним встал. Руки свои выставил вперед. Прошли они сквозь воротца на ладонях ангела и дальше идут. Так же и третий раз становлюсь на их пути. Прошли они сквозь меня, не заметили. А руки их были и ступни – в мозолях. И морщинисты были их лица. В морщинке каждой – беда мира. И много тех морщин.
Взлетел я вверх, обиженный ангел, как курица по пескам попрыгав. А когда вверх взлетел, рассыпал я по земле – то ли смех свой, то ли свой плач. И тогда пустыня содрогнулась от того шума. Вздрогнули барханы и осели, заструились мелкими струйками.
А братцы мои подумали, что я зову их. Сразу они налетели тучей, махонькие, как мошки. Не вьются они, а уж мечутся – так полет их стал тревожен. И налетели они на старцев. Налетела та мошкара на старцев тучей. Стали разгонять их старцы, рукавами лица прикрывают. Но все же не отводят глаз от неба. В небо глядят. А во взгляде их – тайна. Поглубже еще, чем тайна пустынная. Невыносимы были глаза их. Так что мошки опять по пустыне рассеялись. Стало страшно сынам воздуха, ибо не мудрей они, чем дети века сего.
Тут и конец главе сорок шестой. Началась сорок седьмая глава.
Глава 47
А я стоял дурак-дураком посреди пустыни. Старцы прошли сквозь меня три раза и вдаль уходили. Я подумал: что взгляд их ищет так упорно в небе, отчего отводят они его от зыбучих песков, отчего не скользит он по бархатистым барханам? Что в небе ищет, которое еще пустынней, и оно молчит?
Отмахнулись старцы, как от надоедливых мошек, от легкокрылых детей воздуха и дальше идут. И я подумал: вот взглянули бы они с такой же упорной силой в мои глаза. Может, тогда б развеялась моя пустыня. Может, сад расцвел бы там, где она была. Вдруг поднялась бы она в небо, как воздушный корабль. Всплыла бы тихо и медленно. Подул бы ветер в ее днище. И уплыла бы она в небо, ни единой песчинки не просыпав. И тогда б навеки канула моя беспредметная свобода, а моя своенравная, ни к чему не привязанная любовь обрела свою благоуханную розу. Поглядел я вслед старцам, а потом вновь взлетел и сел на спину сфинкса.
Я подумал: из каких миров приполз ты в мою пустыню? Вынырнул ты из чьего ночного ужаса? На что ты намек? Кому ты загадка? Тоже ведь ты летун. Вижу я за спиной твоей малые крылышки. Ты – тайна пустыни и пустынная тайна. Врос по брюхо в пески. А я на твою спину присел. А в ответ сфинкс ничего не сказал – лежит, молчит, не задает загадок.
Тут закончилась глава сорок седьмая. Началась сорок восьмая глава.
Глава 48
Тут опять налетели на старцев сыны воздуха, как предзакатная мошкара. Бросил один старец с досады наземь свой посох. Тот стал змеей и уполз в пески. Ударил другой старец своим посохом в землю, и оттуда потекла вода. Ручей по пустыне потек, тоже змеей извиваясь, и в песках вдали замер, ушел в пески.
А третий старец свой посох бросил в летучих детей воздуха. Те – кто куда разлетелись. А посох тот взлетел высоко и обернулся птицей. Не скачущей какой-то по пескам куропаткой, а малой певуньей, словно прилетевшей из леса. Запела она, как не поют в пустынном мире. Беззаботно она запела. Спев песню, улетела в небо.
Тут взъярился каменный сфинкс, загреб лапами. Так своими когтями песок загреб, что застонала пустыня, мучаясь. А потом и вовсе уполз прочь из пустыни. Невесть куда, в глушь чьих-то снов. Куда-то и старцы ушли, в песке затерялись.
Тут конец главе сорок восьмой. Началась глава сорок девятая.
Глава 49
С тех пор заболела моя пустыня. Стала хиреть и чахнуть. Сгинул сфинкс. И перестала пустыня быть тайной. Стала она невнятным хаосом без разгадки.
Пески были прежде спокойны – зыбились они теперь, пучились. То тревожила их змея, в них живущая – оживший посох старца.
И точила пустыню снизу вода. Прежде сух был песок, облачками взметался. Теперь стал он тяжел. Сражался песок с водой, с родником, что забил из следа старцева посоха. Пили воду пески, ее в себя сосали, но песок делался мокрым, и вот уж ветер не мог пошевелить ни песчинки.
А птица та пела по утрам, и в ночи она пела сладко. И я сказал: все иссякает. И величайшая пустыня, придет миг, ссыплется последними песчинками в горловину часов. И тогда ей придет срок затаиться под цветущими почвами. И там ей жить, как сокровенному величию жизни.
Уйдет она в ночь и там затаится, как хищник. Спрячется она в темной чаще. А ночью, когда все люди заснут и будут призраки летать по воздуху, белы, как луна, вот тогда проснется пустыня. В ночи она будет бдить.