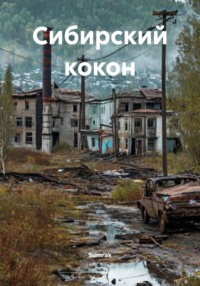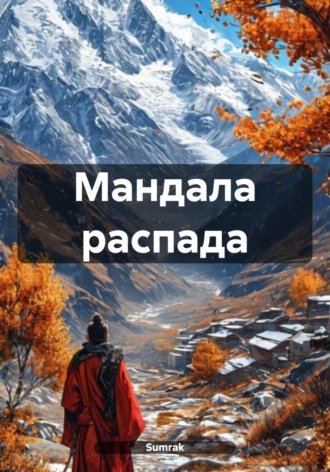
Полная версия
Мандала распада
Максим, казалось, не слышал его. Он молча отломил самый большой кусок от своей булочки и протянул его раненой чайке. Птица, вместо того чтобы испуганно отскочить, сделала несколько неуклюжих шагов и безбоязненно взяла угощение прямо из его детской ладони. Она съела хлеб и осталась сидеть рядом с ним, глядя на него одним блестящим глазом-бусинкой. В этом не было ничего откровенно чудесного, кроме этого абсолютного, необъяснимого отсутствия страха у дикой, раненой птицы.
Утром Ольга проснулась с тяжёлым сердцем. Она подсознательно готовилась к тому, что они найдут на пирсе мёртвую чайку, и ей придётся объяснять это Максиму. Когда они подошли к морю, она невольно искала взглядом безжизненное тельце.
Вместо этого она услышала громкий, радостный крик. С крыши соседней таверны, где сушились рыбацкие сети, с шумом взмыла в небо целая стая. И среди них была она. Ольга узнала её по маленькому тёмному пятнышку на крыле. Чайка не просто была жива – она летела. Уверенно, сильно. Приглядевшись, Ольга заметила, что птица всё ещё старается не опираться на раненую лапу, поджимая её в полёте, но сама лапа больше не выглядела опухшей и окровавленной. Воспаление спало, рана затянулась. Для полного восстановления потребовались бы недели, но за одну ночь произошло то, на что природа потратила бы как минимум одну. Никос, который тоже это видел, медленно снял свою выцветшую капитанскую кепку и перекрестился, глядя то на Максима, который с улыбкой махал птицам рукой, то на чистое, безмятежное небо.
Для старика это было добрым знамением. Для Ольги – приговором. Она поняла, что сила Максима не творит чудеса из ничего. Она невероятно ускоряет естественные процессы. В её голове промелькнуло слово, которое использовал Артём в своих безумных объяснениях – «обнуление». Она всегда думала, что это значит «стереть болезнь». Но что, если это значило «вернуть к изначальному, идеальному состоянию»? К точке ноль, из которой возможен только чистый, незамутнённый рост? Обнулил болезнь? Или стимулировал жизнь до её первозданной силы? Что это, чёрт возьми? Это было не волшебство. Это была биологическая аномалия. И от этого было только страшнее.
Ольга схватила сына за руку и почти бегом потащила его обратно в их комнату. Сердце колотилось у неё в горле. Она ворвалась внутрь и бросилась к окну. Росток герани за ночь не просто подрос. Рядом с ним проклюнулся второй.
Теперь это было невозможно списать на случайность.
Она села на кровать, тяжело дыша. Иллюзия покоя рассыпалась в прах. Она посмотрела на Максима. Он подошёл к ней и положил свою маленькую ладошку ей на колено, глядя на неё своими ясными, спокойными глазами. И в этот момент Ольга всё поняла.
Дар Артёма не исчез. Он не был проклятием, которое сняли, как порчу. Он просто перешёл по наследству, мутировал, превратившись в свою противоположность. Не в способность видеть распад, а в неконтролируемую, инстинктивную способность стимулировать рост, исцелять, вмешиваться в саму ткань жизни.
И это было в тысячу раз опаснее.
Потому что видения Артёма были внутри него, их можно было скрыть. А дар Максима был обращён вовне. Он оставлял следы. Он кричал о себе всему миру через ожившие цветы и исцелённых птиц.
Ольга встала и подошла к окну, обнимая себя за плечи. Её страх обрёл новое, более глубокое и экзистенциальное измерение. Они не просто бежали от Крутова и его ищеек. Они бежали от самой природы своего сына. От силы, которую он не контролировал и даже не осознавал. От чуда, которое в их мире было равносильно смертному приговору.
Она посмотрела на свои руки. Они дрожали. Как долго они смогут прятаться? Сколько ещё таких «маленьких чудес» должно произойти, прежде чем слухи о мальчике, рядом с которым расцветают мёртвые растения и исцеляются животные, дойдут не до ушей старика Никоса, а до спутников и аналитиков Крутова?
Внезапно она поняла, почему Артём был таким. Почему он был одержим, почему он сжигал себя, пытаясь всё исправить. Он видел не просто смерть. Он видел последствия. Он видел цену. И теперь эта цена лежала на её плечах.
Она обернулась и посмотрела на Максима. Он всё так же стоял у кровати, терпеливо ожидая, когда у мамы пройдёт её странная паника. На его лице не было ни страха, ни непонимания. Только тихое, любящее спокойствие. И в этом спокойствии была сила, которая пугала Ольгу больше, чем все армии мира.
Она опустилась перед ним на колени, взяла его лицо в свои ладони и заглянула ему в глаза.
– Максим, – её голос дрожал. – Ты должен мне пообещать. Никогда… никому не показывай, что ты умеешь. Слышишь? Никогда.
Он молча кивнул, хотя вряд ли понял, о чём она просит. Он просто видел её страх и хотел её успокоить. Он прижался к ней и обнял её худенькими ручками. Ольга крепко зажмурилась, вдыхая запах его волос – запах солнца, соли и чего-то ещё. Запаха тихого, незаметного, но неумолимого роста. Роста силы, которая однажды или спасёт их, или погубит.
Вечером, когда Максим уснул, Ольга сидела за столом, пытаясь заставить себя поесть. Её взгляд упал на старую керамическую чашку, из которой она пила утром. На ней была тонкая, едва заметная трещина, старый скол. Она помнила его. Но сейчас, проведя по нему ногтем, она почувствовала, что острые края трещины сгладились, словно их оплавили. Сама трещина не исчезла, но стала похожа на старый, затянувшийся шрам. Керамика в этом месте на ощупь была странно тёплой.
Её ложка со стуком упала на стол. Это происходило прямо сейчас. Дар Максима был не просто серией активных «чудес». Он был пассивной, постоянной аурой. Он не просто исцелял. Он упорядочивал хаос. Он "чинил" мир в радиусе своего присутствия. Медленно, незаметно, но неотвратимо.
Ольга в панике посмотрела на спящего сына. Он дышал слишком глубоко, почти тяжело, как после долгого бега, на лбу выступила едва заметная испарина. Ольга вспомнила, что и после случая с чайкой он был необычно вялым и проспал почти до полудня. Она всё поняла. Эта сила не была бесплатной. Она питалась его собственной жизненной энергией. Он чинил мир, но при этом «ломал» себя, истощая свои силы. Он был не маяком, который иногда вспыхивал. Он был тихим, постоянным передатчиком, который менял всё вокруг, даже не осознавая этого. И она не могла это остановить. Она не могла сказать ему: «Перестань». Это было всё равно что приказать ему перестать дышать.
Она подошла к его кровати и поправила одеяло. Он улыбнулся во сне. Осознаёт ли он? Понимает ли, что с ним происходит? Ольга всматривалась в его безмятежное лицо и с ужасом понимала, что нет. Для него это было так же естественно, как биение сердца. Он не «исцелял» чайку или «чинил» чашку. В его мире, очищенном от законов распада, вещи просто были такими, какими должны быть – целыми, живыми, правильными. Он не видел в этом чуда. Он видел норму. И эта детская, невинная убеждённость в собственной «нормальности» пугала Ольгу больше, чем любое осознанное применение силы.
Она опустилась на колени у его кровати и тихо заплакала – беззвучно, без слёз, одними только судорожными, сотрясающими всё тело вздохами.
Глава 119: Нить в тумане
Аэропорт Стамбула обрушился на Доржо лавиной. После тишины дацана и мерного стука колёс поезда этот мир казался оглушительной, лихорадочной агонией. Гул тысяч голосов на десятках языков, пронзительные объявления из динамиков, крики таксистов, навязчивый запах чужого парфюма, смешанный с ароматом жареных каштанов и выхлопных газов. Для любого другого человека это был бы дезориентирующий хаос. Но Доржо двигался сквозь него, как вода, огибающая камни – плавно, невозмутимо, не меняя своего течения. Он был островком тишины в центре шторма.
Он не смотрел на указатели и не вслушивался в объявления. Он просто шёл, ведомый внутренним чутьём, которое вело его сквозь толпу к выходу. Он нашёл стоянку такси, проигнорировав назойливых зазывал, и подошёл к пожилому водителю, который дремал в своей машине. Доржо молча открыл дверь. Водитель встрепенулся.
– Султанахмет, – тихо сказал Доржо. Это было единственное слово.
Такси неслось по гудящим улицам мегаполиса, стоявшего на границе двух миров. За окном проносились древние стены, современные небоскрёбы, хаотичные рынки и вечные минареты. Доржо сидел с закрытыми глазами, его руки спокойно лежали на коленях. Он уже начал свою работу, отключаясь от внешнего мира, чтобы услышать внутренний.
Он нашёл это место интуитивно, покинув такси и растворившись в лабиринте узких улочек. Небольшая, почти скрытая от глаз туристов чайхана на крыше старого здания. Скрипучая деревянная лестница вела наверх, на террасу, откуда открывался захватывающий вид на Босфор. Бесконечное движение танкеров, юрких паромов и рыбацких лодок было похоже на кровоток этого гигантского города. Доржо заказал у хозяина, пожилого турка с морщинистым лицом, один стаканчик обжигающего чая и сел за самый дальний столик, спиной к остальным посетителям, лицом к воде. Эта шумная, прокуренная терраса стала его временным дацаном.
Он сделал один маленький глоток. Чай был крепким и горьким. Доржо закрыл глаза.
Внешний мир – крики чаек, низкий гудок проходящего танкера, смех за соседним столиком, звон маленьких ложечек – начал медленно отступать. Звуки не исчезали, но теряли свою резкость, превращаясь в далёкий, неразборчивый гул, в фон, похожий на шум прибоя. Он погружался в себя, в состояние глубокой, сосредоточенной медитации. Это было не пассивное созерцание для достижения покоя. Это был активный, напряжённый поиск.
Он «вслушивался» в кармический шум планеты. В его сознании это выглядело как бесконечный, вибрирующий туман, состоящий из миллиардов переплетённых нитей. Каждая нить – чья-то судьба, чьё-то страдание, желание, страх или надежда. Этот вселенский хор был оглушителен – белый шум сансары, в котором тонули все отдельные голоса.
Он искал не звук. Он искал его отсутствие.
Он искал тишину в этой оглушительной какофонии. След мальчика, чья карма была насильственно обнулена взрывом, должен был ощущаться не как яркая вспышка или громкая нота. Он должен был быть «дырой» в этой гудящей ткани реальности. Идеально ровным, чистым каналом в море хаоса, пустотой, которая своей правильностью выделялась на фоне всеобщего переплетения.
Он просеивал этот ментальный шум, как старый золотоискатель, который терпеливо промывает тонны речного песка в поисках одной-единственной золотой крупицы. Это была мучительно медленная и изматывающая работа. Часы проходили как минуты. Чай в его стакане давно остыл. Солнце начало клониться к закату, окрашивая воды Босфора в медно-красный цвет.
И в какой-то момент, на самом пределе концентрации, он нашёл её. Это была не просто пустота. Все кармические нити мира вибрировали, каждая на своей частоте, создавая хаотичный, дребезжащий гул. Но эта «тишина» была другой. Она не молчала. Она звучала. Она звучала как идеально ровная, чистая синусоида, как звук камертона, настроенного на ноту творения. Это была та самая «нулевая» частота, которую он видел на медицинских приборах Артёма, когда тот описывал состояние сына. И рядом с этой идеальной, спокойной вибрацией он почувствовал другую – рваную, аритмичную, полную диссонанса. Это был страх матери, Ольги, цепляющийся за эту чистую ноту.
Нить не указывала на точный адрес. Она не вела к конкретному дому или улице. Она давала лишь вектор, смутное направление. Она тянулась не из центра Стамбула, а откуда-то с его окраин, и вела на запад. Через море.
Доржо медленно открыл глаза. Мир вернулся к нему со всей своей резкостью и шумом. Но теперь в этом хаосе был порядок. Взгляд его был ясен. Он допил холодный чай одним глотком, оставил на столе несколько монет, которых было более чем достаточно, и молча встал.
Хозяин чайханы, провожая его взглядом, заметил, что странный старик, который несколько часов просидел неподвижно, как статуя Будды, теперь двигался с тихой, но ощутимой целеустремлённостью.
Доржо не знал, куда именно бежали Ольга и Максим. Но он знал, куда ему нужно идти дальше. На запад. Через море. К далёким берегам Греции.
Он спустился по скрипучей лестнице и снова растворился в толпе, превратившись в неприметного старика в простом дорожном халате. Но теперь у него был компас. Невидимая, дрожащая нить в густом тумане сансары. И он пойдёт по ней до самого конца.
Он не пошёл сразу в порт. Сначала он зашёл в маленькое, шумное интернет-кафе. Его пальцы, привыкшие к чёткам, неловко, но уверенно легли на клавиатуру. Прошлое физика-ядерщика дало ему не только знание об атомах, но и понимание того, как устроен современный мир. Он быстро проверил расписание паромов, идущих из Стамбула на запад. Греция. Самый очевидный и хаотичный маршрут для беглецов. Логика и интуиция сошлись в одной точке.
Он добрался до международного порта. Подошёл к кассе с надписью «International Departures».
– Один билет. Пирей, – сказал он кассиру.
Тот устало посмотрел на старика-азиата и скептически произнёс:
– Греция – это Шенгенская зона. Ваш паспорт. И виза.
Доржо молча достал свой потёртый бордовый загранпаспорт. Кассир лениво пролистал его.
– Визы нет, – констатировал он, собираясь вернуть документ.
– Посмотрите дальше, – тихо сказал Доржо.
Кассир, раздражённо вздохнув, пролистал ещё несколько страниц. И замер. Там, на чистой странице, сияя голограммой, была наклеена многократная шенгенская виза, выданная консульством Швейцарии, со сроком действия до конца 2026 года. Виза, полученная для научной конференции, на которую он так и не поехал. Ещё один кармический узел, который казался ненужным, но теперь развязался в самый нужный момент.
Кассир хмыкнул, пожал плечами и, пробив билет, вернул ему паспорт. Для него он был просто ещё одним странным стариком с действующими документами.
Несколько часов спустя Доржо стоял на палубе огромного парома, уходящего в ночное Эгейское море. Он смотрел не на удаляющиеся огни Стамбула, а вперёд, на тёмную, маслянистую воду. Он сделал первый шаг. Он знал, что впереди его ждёт ещё одна граница, ещё один узел, но сейчас он был в потоке, следовал за нитью. Его путешествие только начиналось.
Глава 120: Зеркало сознания
Лаборатория «Химеры» была стерильным адом. Белизна стен, пола и потолка была абсолютной, безжалостной, она впитывала любые тени. Яркий, ровный свет люминесцентных панелей не оставлял ни одного тёмного угла, создавая ощущение, что ты находишься внутри хирургического инструмента. Монотонный, низкий гул систем вентиляции и жизнеобеспечения был единственным звуком, который лишь подчёркивал гнетущую тишину.
В самом центре этого белого небытия стоял герметичный бокс из толстого бронестекла. Внутри, на постаменте, покрытом чёрным бархатом, лежала маленькая, невзрачная горстка чёрного песка. Она казалась дырой в этом царстве стерильности. За стеклом, в кресле, похожем на гибрид стоматологического и электрического стула, сидел подопытный. Андрей Вольский, тридцатилетний, амбициозный учёный-нейрофизиолог, один из лучших в команде Арбатова. Его коротко стриженная голова была опутана сеткой проводов, но это была лишь внешняя, вспомогательная часть. Главным элементом был тонкий обруч из тёмного, матового металла, плотно охватывающий череп – "нейроиндуктор", как называл его Арбатов. Устройство создавало слабое резонансное поле, которое не просто считывало активность коры, но и позволяло "снимать" глубинные образы из гиппокампа и миндалевидного тела. Ещё один датчик, похожий на плоскую присоску, был закреплён у основания шеи – он улавливал малейшие изменения в вегетативной нервной системе, переводя подсознательный страх на язык цифровых данных.
За пуленепробиваемым стеклом, за главным пультом управления, сидел профессор Арбатов, его сухое лицо было бесстрастным, как у энтомолога, наблюдающего за насекомым. А позади него, в тени, стоял Олег Крутов. Он не участвовал. Он присутствовал, и его присутствие давило на всех в комнате сильнее, чем атмосферное давление.
– Задача проста, Андрей, – раздался в динамиках бокса спокойный, методичный голос Арбатова. – Нейроиндуктор откалиброван. Мы не будем форсировать сигнал. Просто мыслите. Сконцентрируйтесь на простом геометрическом объекте. Куб. Идеальный, вращающийся куб. Визуализируйте его. Мыслите чётко. Направьте мысленный образ на образец.
Вольский нервно сглотнул и кивнул. Он закрыл глаза. На мониторах тут же заплясали графики, показывая, как его мозг переходит в режим альфа-ритма, режим концентрации. На большом экране, куда было выведено изображение с мощного микроскопа, частицы песка едва заметно шевельнулись, словно от слабого дуновения ветерка, и замерли. Ничего.
– Слабо, Андрей, – в разговор вмешался холодный, режущий голос Крутова, который прозвучал прямо в наушниках Вольского, заставив того вздрогнуть. – Вы не концентрируетесь. Вы сомневаетесь. Вы думаете о задаче, а не о результате.
Вольский открыл глаза. Его лоб блестел от пота.
– Думайте не о кубе, – продолжал Крутов. – Думайте о той премии, которую вы получите. О новой должности. О признании. Сфокусируйтесь на этом. На символе вашего успеха.
Это был не совет. Это был приказ. Вольский снова закрыл глаза. На этот раз он с отчаянием вцепился в образ золотой медали, которую ему вручили за лучшую диссертацию. Яркий, тяжёлый, реальный предмет. Песок снова пришёл в движение. Частицы начали медленно сползаться к центру, формируя некое подобие кривого, дрожащего диска. Он просуществовал несколько секунд и снова распался.
– Лучше, – безэмоционально констатировал Крутов. – Но всё ещё грязно. Ваше сознание засорено. Очистите его. Даю последнюю попытку.
Вольский чувствовал, как по спине струится холодный пот. Провал перед Крутовым был равносилен профессиональному самоубийству. Он должен был дать им результат. В панике он решил использовать самый мощный мнемонический якорь, который у него был. Своё самое счастливое, самое чистое детское воспоминание. День, когда отец, которого он боготворил, впервые взял его, пятилетнего, в планетарий.
Он полностью погрузился в это ощущение. Бархатная темнота зала, шёпот отца, чувство его сильной руки. А потом – вспыхнувшие на куполе звёзды, огромные, прекрасные, и величественная модель Солнечной системы, медленно вращающаяся под музыку. Этот образ, заряженный детским восторгом и любовью, был самым сильным, что он мог сгенерировать. На мониторе, показывающем активность мозга, вспыхнули зоны, отвечающие за долговременную память и визуальную кору.
– Есть сильный, стабильный сигнал из неокортекса, – констатировал один из ассистентов Арбатова, его голос был полон надежды.
И песок отреагировал. Мгновенно.
Частицы не потекли, они рванулись, словно их притянуло мощным магнитом. Но они формировали не планеты и не звёзды. На глазах у ошеломлённых учёных, на чёрном бархате возникла другая, абсолютно чёткая, трёхмерная фигура.
Паук.
Огромный, чёрный, с непропорционально длинными, костлявыми, хищно изогнутыми лапами и раздутым брюшком. Он был отвратительно реален.
Арбатов резко переключил изображение на другой монитор, где выводились данные с нейроиндуктора.
– Смотрите! – его голос дрогнул от научного восторга.
Графики, показывающие активность коры головного мозга, почти не изменились. Но датчик, отслеживающий лимбическую систему, ушёл в запредельную красную зону.
– Сигнал идёт не из коры! – выкрикнул Арбатов. – Он игнорирует сознательную команду! Сигнал идёт напрямую из миндалевидного тела! Из центра страха!
Вольский открыл глаза, чтобы посмотреть на свой триумф на экране. И увидел это. Его лицо исказилось маской животного ужаса. Он с детства страдал тяжелейшей, иррациональной арахнофобией после того, как в деревне его укусил тарантул. Этот страх был его тайным, постыдным демоном, о котором никто не знал.
– Нет… – прошептал он, его голос сорвался. – Нет!
Он закричал. Пронзительный, тонкий крик, полный первобытного ужаса. Он пытался вырваться из кресла, но ремни держали мёртвой хваткой.
– Уберите его! Уберите!
Один из ассистентов Арбатова, не отрывая взгляда от своего монитора, заговорил быстрым, механическим голосом:
– Резкий скачок артериального давления. 220 на 130. Пульс – 180. Массивный выброс адреналина и кортизола. ЭКГ показывает инверсию зубца Т и депрессию сегмента ST. Это острая ишемия миокарда. Ещё минута, и начнётся инфаркт. Рекомендую немедленно прекратить эксперимент!
Чем сильнее была его паника, тем более чётким и детализированным становился песчаный паук. Он словно питался его страхом, становясь всё более реальным, его лапки начали едва заметно подрагивать.
– Невероятно, – прошептал Арбатов, лихорадочно стуча по клавиатуре, его лицо выражало чистый научный восторг. – Он проигнорировал сознательную команду и материализовал вытесненный подсознательный триггер!
Вольский бился в кресле, его крики перешли в бессвязные рыдания. Он срывал с себя датчики, царапая кожу. Крутов молча смотрел на эту сцену, и на его губах играла тень ледяного, удовлетворённого любопытства.
Тяжёлая дверь бокса открылась. Два санитара в белых халатах, чьи лица не выражали ничего, вошли внутрь. Один из них ловким, отработанным движением сделал Вольскому укол в шею. Учёный обмяк, его рыдания перешли в тихие, жалобные всхлипы. Его, как куклу, вывели из бокса.
Как только источник страха исчез, песчаный паук мгновенно, словно сдутый ветром, рассыпался, снова превратившись в инертную, мёртвую горстку. В лаборатории воцарилась оглушительная тишина.
– Это… это зеркало, – выдохнул Арбатов, глядя на замершие графики. – Зеркало души.
Крутов подошёл к стеклу бокса и долго смотрел на безобидную горстку чёрного песка.
– Не души, профессор, – тихо поправил он, не оборачиваясь. – Душа – это лирика. Это зеркало страха. А страх – самый надёжный и универсальный рычаг управления.
Он повернулся к Арбатову.
– Эксперимент удался. Более чем. Готовьте следующего. Нам нужно понять предел прочности.
Глава 121: Первый след
Аналитический отдел комплекса «Меридиан-12» был мозгом зверя. В отличие от стерильного ада лаборатории Арбатова, здесь царил полумрак, прорезанный лишь синеватым свечением десятков мониторов. В воздухе висел густой запах озона, кофе и тихого, коллективного напряжения. Десятки аналитиков в штатском, похожие на бледных призраков, сидели в абсолютной тишине, нарушаемой лишь едва слышным гулом серверов и непрерывным, лихорадочным стуком клавиш. Они не искали иголку в стоге сена. Они методично сжигали стог сена, дюйм за дюймом, чтобы на пепелище найти оплавившийся кусочек металла.
Олег Крутов вошёл в этот цифровой муравейник бесшумно. Здесь работали круглосуточно с момента получения приказа. Аналитики спали по четыре часа в сутки прямо в креслах, пока их сменяли коллеги. Но основную работу делал не человек. Специально разработанный ИИ-алгоритм «Паутина» просеивал триллионы байт информации – финансовые транзакции, данные геолокации, теневые форумы, – выискивая малейшие аномалии, связанные с объектами. Человек лишь проверял те зацепки, которые машина помечала как высоковероятные.
Крутов остановился за спиной руководителя группы – молодого, нервного аналитика по имени Семёнов, который, казалось, сросся со своим креслом.
– Доклад, – бросил Крутов, его голос был тихим, но заставил Семёнова вздрогнуть.
Семёнов резко выпрямился и, не оборачиваясь, вывел информацию на свой главный монитор.
– Полковник, «Паутина» закончила анализ официальных каналов. Авиа- и ж/д билеты, бронирования отелей, пересечение границ по базам СНГ и Евросоюза. Чисто. Соколова и её сын словно испарились. Как и ожидалось.
Крутов молча кивнул. Это было предсказуемо.
– Мы перешли к неофициальным каналам, – продолжал Семёнов, его пальцы забегали по клавиатуре. – Теневая сеть Стамбула. Мы начали её проработку ещё до вашего приказа, Олег Петрович, сфокусировавшись на ключевых фигурах, занимающихся нелегальной переправкой людей. Большинство ключевых фигур сейчас залегли на дно из-за хаоса после катастрофы и усиления контроля. Но алгоритм пометил аномальную активность у одного из них. Некто по кличке «Кожевник», он уже давно в нашем "красном списке".
На экране появилась сложная схема, похожая на паутину. В её центре красным светилось имя.
– Буквально несколько часов назад «Кожевник» провёл несколько крупных и нетипичных для него транзакций через анонимный криптовалютный кошелёк. Мы взломали его. Часть денег ушла на покупку двух билетов на ночной паром до Греции, порт Пирей. А другая, более интересная часть, – на счёт небольшого фотоателье на вокзале Сиркеджи. Это ателье давно у нас на заметке, они делают экспресс-фото для фальшивых документов.
Крутов оторвался от бумаг, которые до этого держал в руке. В его глазах появился холодный блеск интереса.
– Мы получили доступ к архивам камер на вокзале, – Семёнов, воодушевлённый вниманием начальника, говорил быстрее. – И «Паутина» нашла совпадение по биометрии. За два часа до отправления парома женщина с мальчиком, по всем параметрам совпадающие с Соколовой и её сыном, заходили в это фотоателье. А через час человек «Кожевника» забрал оттуда конверт. Вероятность случайного совпадения – менее одной десятой процента. Она купила у него новые личности.