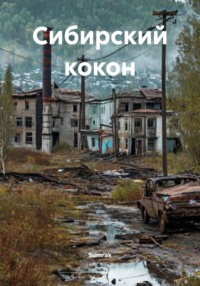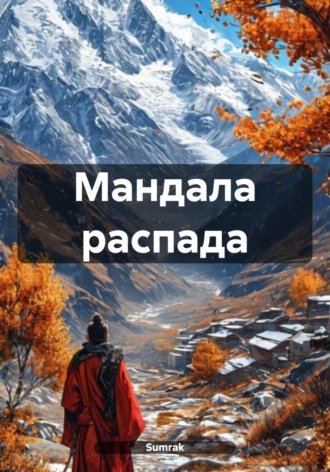
Полная версия
Мандала распада
Толпа в ответ загудела, как растревоженный улей.
Рядовой Али Йылмаз смотрел на эту сцену с высоты своей сторожевой вышки. Он опустил бинокль и устало потёр глаза. Неделю назад их было два десятка – горстка фриков со свечами. Сейчас палаточный лагерь у подножия стены разросся до нескольких сотен человек. Они приезжали со всего мира: растерянные подростки из Европы, экзальтированные домохозяйки из Америки, молчаливые мужчины с Ближнего Востока. Они пели свои странные, атональные гимны, жгли костры и каждую ночь предпринимали отчаянные попытки прорваться через заграждения.
Его подразделение задерживало их десятками. Али видел их лица в свете прожекторов – безумные, пустые или, наоборот, полные такой экстатической веры, от которой становилось жутко. Приказ был прост: «Огонь на поражение при пересечении последней черты». Но он смотрел на этих безоружных, одержимых людей и чувствовал, как его палец на спусковом крючке дрожит. Что страшнее: приказ или это безумие?
В это же время в командном центре генерал Айдын с трудом сдерживал ярость. На экране селекторной связи кричал какой-то чиновник из ООН.
– Генерал, мы имеем дело с гуманитарным кризисом! Этим людям нужны вода, еда, медицинская помощь! Вы не можете просто держать их там, как в загоне!
– Это не беженцы, господин посол, – устало, в сотый раз, повторил Айдын. – Это фанатики. Мы пытались дать им воду. Они вылили её на землю, заявив, что «жаждут лишь пепла». Мы предложили медицинскую помощь. Они ответили, что «Зона исцелит их».
Он вывел на экран запись с камеры наблюдения, сделанную прошлой ночью. Группа «паломников», прорвавшаяся через первый кордон, добралась до самой бетонной стены. Они не пытались её сломать. Они прижимались к ней, гладили холодный бетон, плакали и впадали в состояние странного, дёрганного транса, не реагируя ни на что. Мир не знал, что делать с этой новой, иррациональной угрозой.
В этот момент камера новостного репортажа, который смотрела Ольга, выхватила из толпы одно лицо. Молодая женщина, лет двадцати пяти, с аккуратной стрижкой и в дорогом спортивном костюме – она выглядела как студентка престижного университета, а не как фанатичка. Она стояла на коленях перед бетонной стеной и прижималась к ней лбом так сильно, что по виску текла струйка крови. Её губы беззвучно шевелились, а в глазах, устремлённых в никуда, стоял такой экстатический, неземной восторг, что Ольге стало физически дурно. Это было не лицо протестующего или верующего. Это было лицо человека, который с радостью позволит разорвать себя на части ради прикосновения к чуду.
Ольга захлопнула ноутбук. Она подошла к кровати, где спал Максим. Весь этот мировой хаос, все эти культы и кризисы – всё это было лишь эхом, далёкими кругами на воде от камня, брошенного её семьёй.
Она смотрела на безмятежное лицо сына и с леденящим ужасом понимала: он не просто беглец. Он – первопричина. Нулевой пациент этой новой мировой религии. И если эти безумцы, вроде той девушки у стены, готовые на всё ради прикосновения к «священному пеплу», узнают о существовании мальчика, рождённого в его эпицентре, они не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить своего «мессию».
Угроза исходила больше не только от Крутова и его безликих агентов. Теперь на них, сама того не зная, охотилась целая армия фанатиков. Весь мир.
Петля над Тибром
Глава 127: Камень в реке
Рассвет в Риме не приносил облегчения. Он лишь менял оттенок серого за грязным окном, превращая ночную безнадёжность в дневную тревогу. Ольга проснулась задолго до света, движимая не часами, а въевшимся в кровь страхом.
Она двигалась по дешёвой комнате в районе Эсквилино с методичностью призрака, совершая свой утренний ритуал исчезновения. Влажная тряпка стирала их отпечатки с выключателей и стаканов. Полупустая сумка молча глотала их скромные пожитки. Она не просто убирала. Она стирала сам факт их присутствия.
Максим спал. Она смотрела на него, и её сердце сжималось от смеси нежности и ужаса. Она видела не карту города на столе, а схему течений бурной, неумолимой реки. Они не бежали. Их несло. И её единственной задачей было не дать им разбиться о скалы.
Она мягко коснулась плеча сына. Он проснулся без вопросов, привыкший к этим утренним срывам. Через пять минут они уже растворялись в гудящей толпе у вокзала Термини, превращаясь в две безымянные капли в людском потоке.
Они шли пешком, избегая метро и автобусов, которые были бы слишком замкнутыми ловушками. Их путь лежал на запад, в общем потоке туристов и горожан, спешащих в сердце старого города. Ольга держалась этого течения, как утопающий держится за бревно. Этот людской поток нёс их через шумный проспект Витторио Эмануэле, и к полудню река превратилась в бушующий водопад. Площадь Кампо-деи-Фиори обрушилась на них лавиной звуков, запахов и красок. Гул тысяч голосов, резкие выкрики торговцев, аромат свежего базилика, смешанный с запахом рыбы и жареных во фритюре артишоков. Инстинкт кричал Ольге: «Прячься!». Она пыталась держаться в тени зданий, у края этого человеческого моря, где можно было в любой момент нырнуть в спасительный переулок. Каждый взгляд туриста казался ей оценивающим взглядом охотника.
Но Максим, крепко держа её за руку, делал ровно обратное. Он с упрямством детского любопытства тянул её в самый центр, в самое пекло, к подножию памятника Джордано Бруно, где толпа была наиболее плотной.
– Мама, смотри, фокусник! – он показывал на уличного артиста, который жонглировал апельсинами.
Ольга хотела утащить его, но замерла, внезапно поражённая прозрением. Она смотрела на сына, который был абсолютно спокоен посреди этого хаоса, и поняла его инстинктивную логику. Шум. Этот оглушительный коктейль из тысяч голосов, эмоций, мыслей, желаний был их лучшим укрытием. Он создавал идеальный «белый шум», в котором их тонкий, отчаянный сигнал, их след, который искали невидимые преследователи, тонул, как капля в океане. Максим инстинктивно нашёл для них идеальную звуковую маскировку.
Она перестала сопротивляться. Она позволила сыну вести её через толпу, купила ему стаканчик клубники, улыбнулась фокуснику. Её страх никуда не делся, он просто сжался в холодный комок где-то в глубине живота. Но поверх него легло тонкое, хрупкое чувство восхищения. Её маленький мальчик, её бремя и её единственная причина жить, становился её компасом.
После рынка Максим стал тихим и вялым, словно батарейка, истратившая весь свой заряд. Он сам потянул Ольгу с шумной улицы в неприметный переулок и остановился перед тяжёлыми деревянными дверями церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези. Внутри их встретили прохлада, полумрак и густая, вековая тишина, пахнущая воском и ладаном.
Они сели на скамью в боковой капелле Контарелли. Ольга смотрела на шедевры Караваджо, на мученичество Святого Матфея, на отчаянную борьбу света и тени, и видела в них лишь отражение их собственной судьбы. Максим же не смотрел на картины. Он прижался к ней, закрыл глаза и просто дышал. Глубоко, ровно, словно впитывая этот покой, заряжаясь им.
Ольга поняла вторую часть его инстинктивной стратегии. Если шум был маскировкой, то тишина была лекарством, восстановлением. Здесь, в этом священном пространстве, не было ментального мусора, не было суеты, которые могли бы их выдать. Они становились невидимыми по-другому – сливаясь с абсолютным покоем. Её сын чувствовал мир так, как она никогда не сможет – не глазами, а всей своей сутью, ощущая «безопасные» и «опасные» места так же ясно, как другие ощущают тепло и холод.
Максим уснул у неё на коленях. Ольга сидела неподвижно, боясь его разбудить, и смотрела на пронзительный луч света, падающий из-под купола. Она чувствовала себя одновременно и его последней защитницей, и ведомой. Впервые за много дней она почувствовала не острый приступ страха, а лишь бесконечную, свинцовую усталость.
Когда сумерки начали окрашивать небо в фиолетовый цвет, Ольга повела сонного Максима через реку, по мосту Систо, в лабиринт Трастевере. Этот район, с его узкими, путаными улочками и шумными тратториями, казался идеальным местом, чтобы снова затеряться на ночь. Ночью они были уже в другой норе, в крошечной комнатке с видом на черепичные крыши Трастевере. С улицы доносились смех и звуки гитары, но здесь, наверху, было тихо. Ольга уложила Максима. Он уже не спрашивал, почему они снова в новом месте. Он просто принял эту кочевую жизнь как единственно возможную.
Она села у открытого окна. Река. Метафора вернулась, но обрела новый, более глубокий смысл. Да, их несло течением. Но они не были просто беспомощным, мёртвым камнем. Максим был живым ядром этого камня, его сутью. Он, как чувствительный магнит, реагировал на невидимые потоки, инстинктивно выбирая самый безопасный путь в этой бурной воде. Она всё ещё не могла управлять рекой. Но она могла – она должна была – доверять своему компасу. Её задача была не в том, чтобы бороться с течением, а в том, чтобы следовать за ним, оберегая его.
Её пальцы нащупали в кармане гладкий, холодный камень с дыркой посередине – артефакт Артёма, который Максим всегда носил с собой. Она поднесла его к глазу и посмотрела на огни ночного Рима. Сквозь маленькое отверстие мир казался другим – сфокусированным, странным. Она навела его на далёкий уличный фонарь.
И на одно ужасное, пронзительное мгновение ей показалось, что свет треснул. Это была не реальная трещина, а внезапная, острая вспышка в её собственном сознании, обман зрения, порождённый усталостью и страхом. Но образ был таким ярким – паутина тонких, тёмных линий, разбегающихся от источника света, – что у неё перехватило дыхание. Она вспомнила, как Артём, запинаясь, пытался описать ей свои видения: «трещины в будущем», «паутина возможного».
Она опустила руку, её сердце бешено колотилось. Камень не давал ей его дар. Он был лишь линзой, артефактом, пропитанным энергией и отца, и сына. И сейчас, на пределе сил, её собственное сознание спроецировало на реальность тот образ, которым был одержим её муж. Внезапно она поняла, что держит в руке не просто игрушку сына или сувенир мужа. Она держала осколок их общей души.
Она положила камень на тумбочку рядом со спящим Максимом. Завтрашний день мог принести что угодно, но сегодня они выжили. Ольга легла рядом с сыном, не раздеваясь, готовая в любой момент снова сорваться в поток. Река всё ещё несла их сквозь тьму, но теперь она знала, что её компас – это ещё и призрачный взгляд Артёма, следящий за ними из вечности.
Глава 128: Камертон для души
Ночь в бункере «Меридиан-12» была абсолютной. Она не имела ничего общего с бархатной темнотой обычного мира; это была стерильная, безвременная пустота, нарушаемая лишь едва слышным гулом систем жизнеобеспечения. Олег Крутов стоял перед гигантским тактическим экраном, заливавшим его кабинет холодным синим светом. На экране, как язва, расползалась карта Италии, испещрённая зонами поиска, графиками вероятностей и пунктирными линиями предполагаемых маршрутов. В неподвижности его фигуры, в том, как напряжённо были сцеплены за спиной его руки, чувствовалась сжатая до предела пружина нетерпения.
В кабинет бесшумно вошёл аналитик Семёнов. Он был бледен, под глазами залегли тени – результат сорока восьми часов почти непрерывной работы. Он остановился в двух шагах позади Крутова, боясь нарушить его концентрацию.
– Полковник.
Крутов не обернулся.
– Доклад.
– Мы зафиксировали несколько нетипичных транзакций наличными в Бари и Риме, – голос Семёнова был ровным, но в нём слышалась нотка отчаяния. – Они совпадают с предполагаемым профилем объекта. Но след холодный. Они движутся хаотично, как броуновская частица. Мы можем отследить, где они были, но не где они будут. Они… они как цифровой призрак.
Крутов молчал несколько секунд, вглядываясь в карту.
– Призрак… – медленно, почти шёпотом повторил он, и от этого шёпота у Семёнова по спине пробежал холодок. – Это значит, Семёнов, что ваши алгоритмы, ваша хвалёная «Паутина» гоняется за эхом. Это не работа. Это археология. Вы свободны.
Он отпустил аналитика едва заметным кивком, который был унизительнее любого выговора. Семёнов тихо ретировался, и тяжёлая дверь за ним беззвучно закрылась.
Оставшись один, Крутов несколько раз провёл пальцами по сенсорной панели стола. Экран перед ним разделился на три окна, превратившись в доску для его безмолвного мозгового штурма.
Слева – карта Италии с прерывистым, хаотичным следом беглецов. Проблема.
Справа – медицинская карта Максима Соколова. И на ней – график его электроэнцефалограммы после «обнуления». Идеально ровная, чистая синусоида, лишённая малейших помех. Ключ.
В центре – секретные схемы «Протокола Омега» и последние отчёты профессора Арбатова по свойствам чёрного песка. Инструмент и Принцип.
Он долго всматривался в спокойную, почти неестественную линию на графике ЭЭГ.
– Это не тишина, – прошептал он в гулкую пустоту кабинета. – Это идеальный сигнал. Чистая несущая частота. "Нулевая частота", свободная от кармического шума, о котором бредил Доржо.
Он вывел на экран схему взрыва «Анатолии». Артём Гринев в эпицентре, его дар, направленный на сына. Взрыв не просто исцелил мальчика. Он использовал сознание отца как фильтр, как огненное сито, и пропустил через него сущность сына, сжигая дотла всю наследственную "грязь", весь кармический код, всю генетическую предрасположенность к аномалии. Он стёр всё. Это было не лечение. Это было обнуление на самом фундаментальном, квантовом уровне. Мальчик – это не просто здоровый ребёнок. Он – tabula rasa. Его ДНК теперь несёт в себе не код, а идеальную, первозданную пустоту. Сигнатуру, которой в природе больше не существует.
Его взгляд метнулся к схемам провалившегося «Протокола Омега». Он вспомнил хаос, разрыв, неконтролируемую мощь, которая отбросила их, как детей, пытающихся повернуть вспять реку.
– Мы пытались кричать на реальность, навязать ей свою волю, – пробормотал он. – И она дала отпор.
Затем его глаза остановились на выделенной строке в отчёте Арбатова: «…образец не подчиняется прямым сознательным командам, но входит в активный резонанс с глубинными, подсознательными триггерами (страх, травма)…».
– Он не глухой солдат, – осенило Крутова. – Он – сверхчувствительный приёмник.
И в этот момент все три окна на экране сошлись для него в одну точку, в одну ослепительно ясную идею. Мы не будем кричать. Мы будем слушать. Нам нужен не передатчик. Нам нужен приёмник, настроенный на его уникальную, нулевую частоту.
– Камертон… – он произнёс слово вслух. Оно было холодным, точным и идеальным.
Крутов активировал защищённый канал видеосвязи. На экране появилось измождённое, небритое, но горящее нездоровым научным азартом лицо профессора Арбатова. Он явно был выдернут из лаборатории посреди ночи.
– Олег Петрович?
– Профессор, вы немедленно прекращаете все эксперименты по "зеркалу сознания", – без предисловий начал Крутов. – Ваша новая и единственная задача – создать портативное устройство.
Арбатов растерянно моргнул, поправляя очки.
– Но, Олег Петрович, это невозможно! Сигнатуры нестабильны, песок реагирует на любой ментальный шум… Нам нужны годы, чтобы откалибровать систему, способную выделить…
– У нас нет годов, – жёстко прервал его Крутов. Он подался вперёд, и его ледяные глаза, казалось, смотрели прямо в душу учёного. – Профессор, я не прошу вас создать детектор лжи или счётчик Гейгера. Мне это неинтересно. Мне нужен детектор души. Камертон, который зазвенит, только когда окажется рядом с ним.
Он сделал паузу, давая словам впечататься в сознание Арбатова.
– Используйте чёрный песок как резонирующую основу. Образец ДНК мальчика, который у нас есть, – как уникальный ключ для калибровки. Используйте принцип квантовой запутанности. Песок – не просто пассивный приёмник, он должен стать генератором эталонной биорезонансной волны, настроенной на его «нулевую» сигнатуру. ДНК мальчика задаст модуляцию. Устройство должно сканировать окружающий «шум» и искать единственный когерентный отклик. Мне не нужна точность до метра. Мне нужен вектор. Стрелка, которая будет указывать на свет во тьме. У вас сорок восемь часов.
Арбатов на мгновение опешил от такого срока, но затем в его глазах вспыхнул огонь инженерного азарта.
– Сорок восемь часов… – пробормотал он. – Это возможно. Но только если вы дадите мне полный доступ к модулям нейроинтерфейса от «Протокола Омега». Его основной блок наведения был разработан как раз для работы с резонансными полями. Мы можем адаптировать его. Собрать прототип из готовых компонентов. Это будет грубо, нестабильно, но… это должно сработать.
– У вас уже есть полный доступ ко всему, профессор, – холодно ответил Крутов. – Я жду результат.
Крутов оборвал связь, не дожидаясь ответа. Приказ был отдан. Машина запущена.
Несколько секунд он сидел неподвижно, затем переключил канал связи. На экране появилось лицо Яны, командира группы «Волки». Она была в конспиративной квартире в Риме. За её спиной виднелась ночная панорама города. Её лицо было холодной маской профессионала.
– Яна, – сказал Крутов, – прекращайте прочёсывать город. Это бесполезно. Вы гоняетесь за тенями. Отзывайте людей, сворачивайте наблюдение. Затаитесь.
В её глазах на долю секунды промелькнуло профессиональное разочарование – добыча была так близко, она это чувствовала. Но оно тут же угасло, сменившись холодным, выжидательным вниманием. Она уже работала с полковником. Его самые нелогичные приказы всегда предшествовали появлению нового, безупречного оружия или идеального тактического решения. Она доверяла не его словам. Она доверяла его результатам.
Она лишь коротко спросила:
– Надолго?
– В течение двух суток вы получите новый инструмент, – ответил Крутов. – Он будет вашими глазами и ушами. Он приведёт вас прямо к цели. Вы больше не сеть, которая пытается поймать быструю рыбу. Вы – скальпель, который должен будет сделать один точный надрез. Будьте готовы.
Он завершил разговор.Олег Крутов откинулся в кресле и снова посмотрел на огромную карту Италии на стене. Это больше не было хаотичное пространство, полное неизвестности. Теперь это был операционный стол. И он ждал, когда ему в руки дадут идеальный хирургический инструмент, чтобы найти и вырезать то, что принадлежало ему по праву. Охота переходила на новый, технологический и почти мистический уровень.
Глава 129: Старик и море огней
Паром вошёл в порт Бриндизи на рассвете, разрезая молочно-серую воду Адриатики. Воздух был влажным и пах солью, дизельным топливом и крепким кофе, доносившимся с набережной. Доржо сошёл по гулкому трапу вместе с сонной, разноголосой толпой. Вокруг него бурлил чужой мир: резкая итальянская речь, крики портовых рабочих, рёв моторов. Для любого другого он был лишь неприметным азиатским стариком в простой дорожной одежде, затерявшимся в этом хаосе.
Итальянский пограничник лениво пролистал его паспорт, шлёпнул печать и, не поднимая глаз, махнул рукой. Доржо не пошёл за толпой к стоянке такси. Он свернул в сторону, к длинному каменному молу, уходящему в море, и нашёл пустую скамейку, обращённую на восток. Солнце только начинало подниматься над горизонтом, окрашивая небо в нежные, акварельные тона. Он сел, поставил рядом свою скромную сумку и закрыл глаза, отсекая суету мира. Ему нужно было найти тишину.
Он погружался в себя медленно, слой за слоем, отпуская внешние звуки – крики чаек, гудок отходящего судна, далёкий звон церковного колокола. Они не исчезали, а превращались в далёкий, однородный гул, в фон, на котором он мог расслышать то, что искал. Он снова раскинул свою ментальную сеть, вслушиваясь в кармический шум этой новой земли. Он был другим – более страстным, хаотичным, чем в Греции, но суть оставалась прежней. Миллиарды переплетённых нитей страдания и надежды.
Он искал знакомую аномалию – идеальную, чистую вибрацию Максима. Это было сложнее. Здесь, на чужой земле, сигнал был слабее, как далёкая радиостанция, которую приходится ловить, поворачивая невидимую ручку настройки. Он просеивал шум, отбрасывая чужие страхи, чужую боль, чужую любовь. Прошла минута, десять, полчаса. Город за его спиной просыпался, шум нарастал.
И вот он нашёл её.
Слабая, дрожащая, но безошибочно узнаваемая «нить света». Она не указывала на Бриндизи. Она тянулась откуда-то с севера, из глубины итальянского «сапога». Вектор был чётким и неумолимым. Рим. Они были там или двигались туда. Чувство облегчения было похоже на глоток холодной воды в пустыне. Он нашёл их.
Но в тот же миг, когда его сознание коснулось этой чистой частоты, он почувствовал иное. Помеху. Это был не страх Ольги, который ощущался как рваный, панический статический разряд. Это было нечто чужеродное. Холодное, методичное, безжизненное «жужжание». Оно ощущалось как тонкая игла, впивающаяся в живую ткань реальности. У него не было эмоций, не было кармы. Это был след машины. Искусственный, сфокусированный поиск, который пытался сделать то же самое, что и он – выделить сигнал мальчика из общего шума, – но делал это механически, бездушно и, как чувствовал Доржо, с пугающей эффективностью.
Он понял. Крутов больше не полагался на людей и алгоритмы. У него появилось новое оружие, настроенное на душу его ученика.
Доржо резко открыл глаза. Мир ворвался в его сознание со всей своей яркостью. Время иллюзий кончилось. Это была гонка.
Он встал, закинул сумку на плечо и быстрым, уверенным шагом направился в город, к вокзалу. В его движениях больше не было медитативной плавности, в них появилась стальная целеустремлённость. В кассе он не спрашивал расписания.
– Ближайший поезд на Рим, – его итальянский был на удивление чистым и правильным, хоть и с лёгким, неуловимым акцентом – ещё одно эхо из забытого прошлого, когда он читал лекции в европейских университетах.
Через час он уже сидел в вагоне скоростного поезда Frecciarossa, несущегося на север. Он не знал, где именно в огромном Риме находятся Ольга и Максим. Он не знал, сколько у него времени. Но он знал одно: он должен прибыть первым. Он должен был опередить не просто людей. Он должен был опередить их бездушный, технологический нюх.
За окном проносились виноградники, оливковые рощи и древние города. Поезд мчался вперёд, и с наступлением вечера Италия превратилась в россыпь огней. Доржо смотрел на это бесконечное, переливающееся море огней и понимал, что где-то там, в этом сияющем хаосе, горит один маленький, чистый огонёк, за которым охотится тьма. И он, старик, был единственным, кто шёл не на блеск городов, а на этот невидимый внутренний свет.
Глава 130: Осколок в голосе
Клиника «Возрождение» встретила Олега Крутова той же удушающей тишиной и запахом сандала. Профессор Забельский, семенящий рядом, уже не пытался лепетать оправдания; он молча вёл Крутова к знакомой палате-аквариуму, как жрец, ведущий палача к алтарю.
Елена сидела в той же позе, что и в прошлый раз – на краю идеально заправленной кровати, прямая, как фарфоровая кукла. Её пустые, тёмные глаза были устремлены на белую стену. Но сегодня Крутов принёс не только контейнер с чёрным песком. В руке его помощника была прозрачная папка, в которой лежал детский рисунок. Неуклюжая, но отчётливая спираль, нарисованная синим мелком. Рисунок был изъят из квартиры Ольги во время обыска – одна из немногих вещей, что она не смогла забрать.
– Начинайте, – приказал Крутов, кивнув на пульт управления.
Помощник открыл заслонку на контейнере с песком. Техник за медицинским пультом напряжённо следил за мониторами. Тишина.
– Профессор, – голос Крутова был лишён интонаций. – Говорите с ней. Артём. Максим.
Забельский сглотнул и, наклонившись к микрофону, произнёс дрожащим голосом:
– Елена… Артём. Он бросил вас. Он выбрал сына. Максим… Мальчик, который всё разрушил.
На экране ЭЭГ, до этого показывавшем лишь вялую активность, пробежала слабая, едва заметная рябь. Елена не шелохнулась. Её лицо оставалось бесстрастной маской.
– Сильнее, – процедил Крутов. Он взял у помощника папку и прижал рисунок к стеклу аквариума, прямо на уровне глаз Елены. – Смотри. Это его след. Спираль твоего проклятия. Он нарисовал её на твоей жизни, на жизни твоего отца. Артём использовал тебя, чтобы спасти его.
Всплеск на мониторе стал чуть более выраженным. Пальцы Елены на её коленях едва заметно дрогнули. Но её сознание по-прежнему было заперто в неприступной крепости. Она не реагировала.
Крутов молча смотрел на неё, анализируя. Его лицо было похоже на лицо шахматиста, просчитывающего проигрышную партию. Артём, Максим, месть – всё это были триггеры, но они лишь царапали поверхность её разрушенного разума. Он искал не царапину. Он искал трещину, в которую можно вогнать клин.