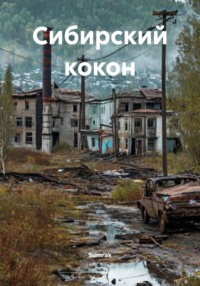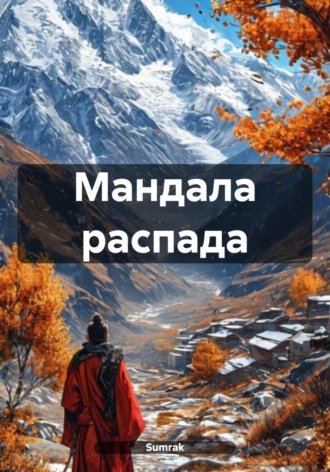
Полная версия
Мандала распада
Крутов, видя начинающийся распад дисциплины, шагнул к микрофону внутренней связи. Его лицо было маской из льда и сдерживаемой ярости. Он собирался одним коротким приказом вернуть стадо в загон.
– Отставить панику! – его голос, усиленный динамиками, должен был перекрыть вой сирен. – Всем оставаться на местах! Активировать протокол «Завеса»! Запечатать…
Он не успел договорить.
До бункера дошла ударная волна. Это был не просто толчок. Это был низкий, сокрушительный удар, который пришёл не сбоку, а будто бы снизу, из-под самого основания. Бункер, спроектированный с расчётом на прямое попадание тактического ядерного заряда, содрогнулся, как живое существо. Бетонный пол ушёл из-под ног, а с потолка посыпалась пыль и мелкие осколки.
Крутов инстинктивно отшатнулся от бронестекла. Он увидел, как массивные потолочные балки в главном зале прогибаются с ужасающим стоном, как на лицах техников отражается первобытный, животный ужас.
Затем с оглушительным скрежетом и грохотом, от которого, казалось, лопнули барабанные перепонки, часть потолка рухнула. Тонны бетона и перекрученной арматуры обрушились на центральные пульты управления, погребая под собой людей и их крики.
В тот же миг все лампы вспыхнули в последний раз и погасли.
Бункер погрузился в абсолютную, непроглядную тьму. Сирены замолкли, оборванные на полуслове. Исчезли красные экраны. Осталась лишь тишина, нарушаемая треском остывающего металла и тихими, полными боли стонами тех, кому повезло – или не повезло – выжить.
Катастрофа перестала быть картинкой на экране. Она пришла сюда.
Глава 100: Гробница Елены
Прошло время. Час или день – она не знала. Тьма украла у неё не только свет, но и ощущение времени. Первоначальный шок от осознания, что она замурована, схлынул, оставив после себя липкий, вязкий ужас. Он был не в темноте и не в тишине. Он был в ней самой.
Елена сидела, прижавшись спиной к холодной бетонной стене, и слушала. Единственными звуками были её собственное сбивчивое дыхание и монотонный, сводящий с ума стук капель воды, падающих откуда-то сверху в невидимую лужу. Вероятно, ударная волна повредила одну из труб системы водяного охлаждения серверов. Эта вода – её последняя, скудная надежда на выживание – отмеряла секунды её заточения. Воздух пока был. Аварийная система вентиляции, хоть и не работала, имела огромный запас, рассчитанный на недели автономного существования. Но она не знала, хватит ли ей этого запаса. Кап. Кап. Кап. Каждый удар отмерял секунды её заточения.
Она пыталась бороться. Её разум, привыкший к анализу и контролю, отчаянно цеплялся за логику. Она провела инвентаризацию: аварийный фонарь с почти севшим аккумулятором, половина бутылки воды, один энергетический батончик в кармане. Она составила план: экономить свет, воду, ждать спасателей. Она – Елена Черниговская, дочь гения, руководитель проекта. Её будут искать. Обязательно будут.
Но логика была хрупкой плотиной, которую подтачивало безумие.
Первым пришёл он. Призрак её отца. Он не появился как видение. Он просто сел рядом с ней в темноте, и она почувствовала его присутствие так же ясно, как холод бетона под собой. Он не говорил. Он просто смотрел на неё своими разочарованными глазами. И в этой его молчаливой укоризне было больше муки, чем в любом крике. Она провалила его дело. Она опозорила его имя. Она, его единственная наследница, оказалась лишь неудачным инструментом.
Елена зажала уши, хотя звука не было.
– Уходи, – прошептала она в темноту. – Пожалуйста, уходи.
Но он не уходил.
Затем пришёл Артём. Его призрак был другим. Он был соткан из её собственной ярости и вины. Он стоял в дальнем углу, и она видела его силуэт даже во тьме. Он просто молчал и смотрел на неё. В его взгляде не было ни ненависти, ни прощения. Только спокойная, отстранённая констатация факта: это она привела его сюда. Это она дала ему в руки нож, которым он перерезал горло её мечте. Он был её оружием, которое выстрелило ей в сердце.
– Ты должен был подчиняться! – выкрикнула она, и её голос гулко ударился о стены гробницы. – Ты был всего лишь инструментом!
Призрак Артёма не ответил. Он просто продолжал смотреть.
Она включила фонарь. Дрожащий луч выхватил из темноты лишь искорёженный металл и битое стекло. Никого не было. Она была одна. Но стоило ей выключить свет, как они возвращались.
Кап. Кап. Кап.
Она начала ходить по своему склепу, спотыкаясь об обломки. Десять шагов в одну сторону, двенадцать в другую. Она пыталась думать о спасении, о выживании. Но её мысли снова и снова возвращались к одному. К моменту, когда точка на её мониторе пошла не туда. К моменту, когда её идеальный мир треснул и рассыпался в прах.
Она подошла к завалу и начала царапать бетон ногтями, пока не пошла кровь. Бессмысленное, животное действие. Попытка пробиться не наружу, а из своей головы.
И тогда пришёл третий голос. Самый страшный. Её собственный. Он звучал тихо, рассудительно, как будто комментируя происходящее со стороны.
«Они не придут, Елена. Никто не придёт. Ты здесь умрёшь».
Она закричала, чтобы заглушить его, но крик застрял в горле. Голос был прав.
«Всё, что ты строила. Вся твоя жизнь. Наследие. Месть. Всё закончится здесь. В этой темноте. Под землёй. Как ненужный мусор».
Она сползла по стене и свернулась калачиком на полу, обняв колени. Она больше не боролась. Призраки сели вокруг неё плотным кольцом. Она смотрела в непроглядную тьму, и тьма смотрела в неё. Она больше не была Еленой Черниговской. Она была лишь эхом своих амбиций, запертым в гробнице, которую сама для себя и построила. И стук капель был единственными часами, отмеряющими её медленный распад.
Кап. Кап. Кап.
Глава 101: Трещина в чаше
За тысячи километров от огня и пепла «Анатолии», в Бурятии царил вечный, незыблемый покой. Воздух был прозрачным и холодным, он пах мокрой от утренней росы землёй и острой, смолистой свежестью сосновой хвои. Доржо сидел на полу своей скромной кельи в позе лотоса, неподвижный, как скала, что веками стояла на берегу Байкала. Его глаза были закрыты, морщинистые веки – опущены, а дыхание – ровным и почти неслышным. Он не медитировал в привычном смысле слова. Он слушал. Слушал тихое дыхание спящего дацана, далёкий шёпот ветра, прилетевшего с ледяных просторов озера, мерное, замедленное биение собственного стареющего сердца. Для него всё это было единым, бесконечным потоком, в котором не было ничего лишнего.
На маленьком, низком алтаре перед ним стояли простые вещи: статуэтка Будды из тёмного, отполированного временем дерева, медная курильница с остывшим ночным пеплом и старая глиняная чаша, до краёв наполненная чистой, холодной водой. Чаша была его ровесницей, грубоватая, без узоров, её тёмная поверхность была испещрена сеткой мелких морщинок, как его собственное лицо.
В тот самый миг, когда над руинами «Анатолии» взметнулся столб пара и пыли, Доржо вздрогнул.
Это было не физическое ощущение. Никто другой в дацане этого не почувствовал бы. Это был сбой в гармонии. Словно невидимая струна, натянутая через всё мироздание, на которую он был настроен всю свою жизнь, внезапно лопнула с беззвучным, но оглушительным для его сознания треском. Мир «дёрнулся». На одно короткое мгновение дыхание ветра замерло, пение первой проснувшейся птицы за окном оборвалось на полуноте, а поток времени, который он ощущал как ровную реку, словно ударился о невидимую преграду и пошёл мелкой, тревожной рябью. Доржо знал, что карма – это не цепь, где звенья передают импульс по очереди. Это была единая, напряжённая паутина. И когда рвётся её центральная нить, вся паутина содрогается одновременно, в каждом своём уголке.
Доржо медленно открыл глаза. Его взгляд, обычно спокойный и глубокий, как байкальская вода, был полон тревожного, напряжённого внимания. Что-то случилось. Что-то огромное, необратимое. Событие, которое изменило сам узор мироздания.
И тут он услышал это.
Не громкий треск. А тихий, сухой, едва различимый щелчок. Как будто лопнуло пересохшее на солнце зерно. Звук родился прямо здесь, в полной тишине его кельи.
Его взгляд метнулся к алтарю. К старой глиняной чаше. И он увидел. По её гладкой, тёмной поверхности, от самого края до дна, пробежала тонкая, как волос, трещина. Вода из неё не сочилась. Трещина была почти невидимой, но она была. Сосуд, который служил ему десятилетиями, который пережил лютые зимы и засушливые лета, только что раскололся. Сам по себе. Без причины.
Доржо смотрел на эту трещину, и в его сознании всё встало на свои места. Образы и смутные предчувствия, мучившие его последние месяцы, сложились в единую, ясную и трагическую картину. Он увидел не взрыв и не руины. Он увидел своего ученика, Артёма, стоящего в центре огненного, светящегося вихря. Он увидел его руку на ржавом рычаге. Он увидел его глаза, в которых не было ни страха, ни безумия, а только холодная, абсолютная решимость. Он увидел его выбор.
Он понял всё. Артём не пытался управлять колесом. Он не пытался его починить или перекрасить в другой цвет. Он сделал то, на что у самого Доржо никогда не хватило бы ни решимости, ни жестокости, ни отчаянной, всё сжигающей любви. Он сломал ось.
– Ты всё-таки сделал это, мальчик… – прошептал Доржо в пустоту своей кельи. В его голосе не было ни осуждения, ни удивления. Только бесконечная, тяжёлая печаль и тень горькой, отцовской гордости.
Он медленно, со стоном старых костей, которые протестовали против каждого движения, поднялся на ноги. Он подошёл к алтарю и осторожно, двумя руками, взял в руки треснувшую чашу. Он не пытался рассмотреть трещину или оценить ущерб. Он просто принял её как факт. Как новый шрам на лице мира.
Он вышел из кельи на улицу. Утреннее солнце уже заливало долину и золотило крыши дацана. Он подошёл к старому, почти засохшему абрикосовому дереву у стены и медленно, очень аккуратно, вылил воду из чаши под его потрескавшиеся корни.
– Когда сосуд сломан, – тихо сказал он сам себе, – он может поить землю.
Он вернулся в келью, поставил пустую, треснувшую чашу обратно на алтарь. Затем открыл старый деревянный сундук и достал из него простую дорожную сумку и тёплый халат. Он начал собираться в дорогу. Он не знал точно, куда пойдёт и что его ждёт. Но он знал, что его работа здесь, в тишине и молитвах, закончена. Колесо было сломано. И теперь кому-то нужно было собрать его острые осколки, чтобы они не ранили тех, кто остался. И он знал, что этот кто-то – он.
Глава 102: Нулевая зона
Доктор Аня Шарма, физик-ядерщик из Индии, смотрела в иллюминатор военного вертолёта и чувствовала, как весь её тридцатилетний опыт обращается в прах. Она видела расплавленные коридоры Чернобыля, она ходила по опустошённым землям Фукусимы. Она думала, что видела все лики ядерного ада. Но то, что расстилалось под ними, не было похоже ни на один из них.
Земля не была выжжена. Она не была серой или рыжей. Она была идеально, бархатисто-чёрной. Словно какой-то гигант аккуратно просеял через сито тонны сажи, покрыв холмы, дороги и руины зданий ровным, безжизненным слоем. Никакого градиента, никаких очагов. Просто тотальная, абсолютная чернота.
Рядом с ней сидел доктор Кендзи Танака, японский эксперт, человек, чьё лицо после Фукусимы навсегда осталось маской спокойной, непроницаемой скорби. Он молча смотрел на показания бортового дозиметра. Прибор вёл себя как сумасшедший: цифры скакали от безопасных 0.15 микрозиверт до смертельных 5000, а затем снова падали в ноль. Это было невозможно. Радиационный фон не мог так себя вести.
– Это не похоже ни на одну известную аварию, – тихо сказал Танака, нарушая гул винтов. – Никакого теплового следа. Никакого предсказуемого градиента заражения.
– Это похоже на ошибку, – ответила Аня, не отрывая взгляда от чёрного пейзажа. – Ошибку в самой физике.
Вертолёт приземлился в ста метрах от импровизированного блокпоста турецких военных, на границе условного пятикилометрового периметра. Выйдя наружу в тяжёлых защитных костюмах, группа экспертов МАГАТЭ замерла. Воздух здесь был странный. Тихий. Почти без запаха гари, только лёгкий, едва уловимый привкус озона, как после сильной грозы. Они сделали первые шаги по чёрной земле. Песок не хрустел под ногами, как обычный пепел. Он был мягким, почти вязким, и не поднимал пыли.
Аня Шарма наклонилась и взяла щепотку в руку в толстой перчатке. Он был холодный. Неестественно, неправдоподобно холодный.
Началась работа, и тут же начался хаос. Каждый из шести экспертов достал свой, индивидуальный, идеально откалиброванный дозиметр.
– У меня тысяча двести микрозиверт в час! – крикнул французский специалист, отступая на шаг. – Это смертельно опасно!
– А у меня ноль целых пять сотых! Ноль! – недоумённо ответил Танака, стоя в двух шагах от него.
– Мой прибор просто выключился! Полностью сдох! – доложил третий, тщетно нажимая на кнопки.
Они стояли на одном пятачке земли, но их приборы, самые точные в мире, показывали шесть совершенно разных реальностей. Это было не просто отсутствие данных. Это была атака на саму логику, на основы физики. Они чувствовали себя не учёными, а дикарями, впервые увидевшими грозу и пытающимися объяснить её с помощью палок и камней. Вся их подготовка, все их знания здесь, на этой чёрной земле, превратились в бесполезный хлам. Они были абсолютно, интеллектуально беспомощны.
В штабной палатке их встретил генерал Фатих Айдын. Его лицо было высечено из гранита, но в глазах застыла усталость.
– Мы установили периметр, дальше которого мои люди не идут, – сказал он, указывая на карту. – Внутри этой зоны отказывает большинство средств связи. Электроника ведёт себя непредсказуемо. Три беспилотника, которые мы пытались отправить на разведку, теряли управление и падали. Мы ничего не знаем о том, что происходит в эпицентре.
– Генерал, ваши люди делали замеры? – спросила Аня.
– Делали. И получили те же результаты, что и вы. Бессмыслицу. Мои люди напуганы. Они говорят, это проклятое место. Шайтан тут поработал.
– Мы не верим в шайтанов, генерал, – сухо ответила Аня. – Но то, с чем мы столкнулись, не описывается ни в одном учебнике. Это не просто зона заражения. Это… аномалия.
Вечером, в той же палатке, эксперты подводили первые, неутешительные итоги. На столе были разложены карты и распечатки с показаниями приборов – бессмысленный набор цифр, научная абракадабра. Атмосфера была подавленной.
– Это как если бы законы физики здесь действовали по-другому, – нарушил тишину Танака. – Или не действовали вовсе. Словно в этой точке пространства образовалась… дыра. Пустота. Место, где все наши приборы, все наши знания обнуляются.
– Именно, обнуляются, – подхватила Аня Шарма, задумчиво глядя на карту. – Радиация то есть, то её нет. Сигнал то есть, то его нет. Как будто мы на границе математической функции, в точке сингулярности, где всё теряет смысл. Это не просто зона, это точка отсчёта. Нулевая точка.
Она взяла красный маркер и жирно обвела на карте пятикилометровый периметр.
– Мы не можем называть это «зоной отчуждения» или «зоной заражения». Эти термины неверны. Они не отражают сути.
Она написала поверх карты два слова. Крупными, печатными буквами.
НУЛЕВАЯ ЗОНА.
Один из молодых помощников, составлявший протокол для срочного доклада в штаб-квартиру МАГАТЭ, робко посмотрел на неё.
– А как же официальное название, доктор Шарма? Для прессы, для отчётов?
Аня подняла на него свои усталые, но твёрдые, как сталь, глаза.
– Официально, – сказала она, и её голос прозвучал как приговор всей их миссии, – пока мы не поймём, что это такое, мы будем называть это так, как оно есть. Аномальная зона Анатолии.
Термин родился. Он был не просто названием. Он был признанием полного, абсолютного поражения науки перед лицом неизвестного.
Глава 103: Бегство
Ольга сидела у кровати спящего Максима и впервые за многие месяцы чувствовала не отчаяние, а хрупкую, едва зародившуюся надежду. Рассвет за окном, казалось, обещал новую, чистую страницу. Но эту хрупкую идиллию разрушил резкий, настойчивый звонок мобильного телефона. Незнакомый турецкий номер. Она колебалась, инстинктивно чувствуя угрозу, но всё же ответила.
Голос на том конце говорил по-русски, он был холоден, вежлив и абсолютно безжизненен.
– Ольга Игоревна? С вами говорит представитель консульства. Мы глубоко обеспокоены вашим положением и здоровьем вашего сына. В связи с… инцидентом на стратегическом объекте, мы готовим специальный борт для вашей эвакуации в Москву. За вами приедут в течение часа. Пожалуйста, никуда не уходите и ни с кем не разговаривайте. Это вопрос государственной важности.
В этом голосе, в его казённой, безэмоциональной вежливости, Ольга узнала его. Не конкретного человека, а тип. Тот же холодный, системный тон, который она слышала от людей, приходивших к Артёму. Тон Олега Крутова. И её кровь застыла в жилах. Они знают. Они уже здесь. И «эвакуация» – это не спасение. Это клетка.
Она прошептала «хорошо» и нажала отбой. Паника ледяным обручем сдавила горло. Её первый порыв был подчиниться. Сдаться. Ведь они могут помочь, у них лучшие врачи, лучшие клиники… Но тут же её накрыла другая, более мощная, первобытная волна. Животный, материнский инстинкт.
Она посмотрела на спящего Максима. На его спокойное, исцелённое лицо. Он больше не экспонат для их экспериментов. Он больше не заложник их игр. Чудо, которое она получила в обмен на мужа, она не отдаст. Она не позволит им снова превратить сына в объект изучения, в разменную монету, в живое наследие Артёма.
Она вспомнила его слова, сказанные в одну из редких минут откровенности, когда его мучили видения: «Беги, Оля. Если что-то случится, хватай Максима и беги, не оглядываясь». Тогда она считала это паранойей. Сейчас она поняла, что это было самое трезвое завещание, которое он мог ей оставить.
Решение было принято. Мгновенно. Бесповоротно.
Времени не было. Возможно, у неё всего несколько минут. Её мозг, до этого затуманенный горем, заработал с лихорадочной, отчаянной ясностью. Она метнулась по палате, двигаясь быстро и бесшумно, как вор. Она бросила в старую дорожную сумку немногочисленные вещи Максима и свои. Выгребла из кошелька все наличные, что у неё были, – жалкие крохи. Достала из потайного кармана старую, потёртую фотографию – ту самую, которую Артём пытался сжечь, с детским рисунком спирали на обороте. Она сунула её в карман джинсов. Это всё, что осталось от их прошлой жизни. Всё, что имело значение.
Она подошла к шкафчику и достала уличную одежду Максима.
– Максим, просыпайся, солнышко, – прошептала она, осторожно расталкивая сына. – Нам нужно уйти. Сейчас же.
Максим открыл глаза. В них не было ни страха, ни удивления. Только спокойное, взрослое понимание, словно он всё знал заранее. Он молча кивнул и дал себя одеть.
Они выскользнули из палаты, которая только что была местом чуда, а теперь стала ловушкой. Ольга шла быстро, почти бежала, крепко держа Максима за руку. Она не смотрела на медсестёр, старалась быть невидимой тенью. Она выбрала не главный вход с его стеклянными дверями, а неприметную дверь чёрного хода в конце коридора, через которую вывозили мусор и привозили бельё. Тяжёлая дверь со скрипом поддалась, и воздух свободы ударил ей в лицо. Грязный, шумный, пахнущий выхлопными газами и жареными каштанами воздух стамбульских задворков. Он никогда не казался ей таким сладким.
Они нырнули в лабиринт узких, кривых улочек. Ольга поймала первое попавшееся такси, старый, побитый «фиат».
– Отогар, – бросила она водителю. Автовокзал. Место, где можно раствориться в толпе.
Такси выехало на широкую, шумную улицу. Ольга инстинктивно оглянулась. И вовремя. К главному входу больницы, откуда они только что сбежали, как раз бесшумно подъезжали два чёрных седана с дипломатическими номерами. Из них выходили трое мужчин в строгих тёмных костюмах. Их лица были невидимы, но Ольга почувствовала их холодный, цепкий взгляд даже на этом расстоянии.
Они опоздали. На пять минут. На десять. Этого хватило.
Ольга резко отвернулась и крепче сжала руку Максима, увлекая его глубже в салон машины. Мальчик не смотрел назад. Он смотрел вперёд, на проносящиеся мимо огни чужого города.
– Мама, куда мы едем? – спросил он тихо, без страха.
– Туда, где нас не найдут, – ответила Ольга, и в её голосе звучала не паника, а твёрдая, как сталь, решимость.
Бегство началось. Она стала безымянной беженкой, матерью чуда, спасающей своего сына не от болезни, а от людей, которые были страшнее любой болезни.
Глава 104: Последнее видение
Не было боли. Не было огня. Не было крика.
В тот миг, когда волна чистого белого света коснулась его, тело Артёма Гринева перестало существовать. Оно распалось на составляющие атомы, на энергию, на первооснову, из которой было создано. Но его сознание – тот самый дар, то самое проклятие, которое он нёс всю свою жизнь – не исчезло. Оно было освобождено.
Оно отделилось от физической оболочки, как змея сбрасывает старую, тесную кожу. Исчезли шрамы, усталость, пульсирующая боль в висках, привкус крови во рту. Осталась только чистая, не обременённая материей сущность. Он не летел. Он стал потоком. На одно бесконечное мгновение его сознание, его «я», слилось с необузданной энергией взрыва, став единым целым с «нулевым полем». Он ощутил себя не точкой, а волной, распространяющейся со скоростью света, чувствуя каждую частицу, каждый квант энергии, который он сам же и высвободил. Доржо назвал бы это Шуньятой – не небытием, а изначальной, созидательной Пустотой, из которой рождается всё и в которой растворяются все иллюзии, включая иллюзию самого «я». Он не исчез, он вернулся к истоку. И в этом состоянии всемогущества и всеведения, прежде чем окончательно раствориться, его последняя человеческая привязанность, его любовь к сыну, сработала как компас, как якорь, сфокусировав это безграничное восприятие на одной-единственной нити.
Из этого бесконечного океана связей его сознание потянулось по ней. Самой яркой. Самой важной. Самой болезненной.
Он перенёсся за тысячи километров, в больничную палату в Стамбуле. Он увидел Ольгу, стоящую на коленях в полном отчаянии. Он увидел своего сына, Максима, лежащего на кровати, его жизнь угасала, как пламя свечи на ветру. И он увидел её – причину. Ту самую тёмную, вязкую нить «проклятия», которая тянулась от его собственного дара, от его сущности провидца, к сердцу мальчика, высасывая из него жизнь. Эта нить была не просто метафорой. Он видел её как реальную, пульсирующую тёмной энергией связь, побочный эффект его способностей, который отравлял сына с момента зачатия. Его дар видеть будущее отнимал у Максима его настоящее.
И он понял, что должен сделать. Его жертва на «Анатолии» сломала ось колеса сансары для всего мира, создав «нулевую зону», где старые законы не действуют. Но эту конкретную нить, его личную, отравляющую связь, он должен был разорвать сам. Это было его последнее действие. Его последний выбор. Его последняя ответственность. Это и был смысл жертвы: не просто погибнуть, а использовать высвобожденную энергию взрыва как лезвие.
Его сознание, его воля, слитая с безграничной мощью «нулевого поля», сосредоточилась на этой тёмной нити. Эта связь была нелокальной, она существовала вне времени и пространства. Он собрал всю свою сущность в один-единственный, сфокусированный акт воли. И он потянул. Он разорвал её.
Произошёл беззвучный, но ощутимый для всего мироздания щелчок. Нить, связывавшая его дар с жизнью сына, испарилась.
В тот же миг в больничной палате в Стамбуле Максим сделал глубокий, чистый, сильный вдох. Он открыл глаза. Ясные, здоровые, свободные.
Артём увидел это. Он увидел, как его сын возвращается к жизни. Он увидел, как Ольга плачет от облегчения. Он увидел, что его жертва не была напрасной.
Узор был завершён. Цепь разорвана. Больше не было ни вины, ни долга, ни любви, которая причиняла боль.
Он почувствовал, как его собственное сознание, его «я», начинает угасать. Не исчезать, а растворяться. Расширяться до бесконечности, сливаясь с сияющим океаном света и времени. Последней вспышкой, последним эхом своей памяти он увидел образ Лиды, улыбающейся и машущей ему рукой. Увидел спокойную, принимающую улыбку Доржо. Увидел камень с дыркой, летящий в прозрачные воды Байкала.
А потом не осталось ничего. Ни Артёма Гринева, ни его дара, ни его боли.
Только тишина. И свет.
Глава 105: Чёрный песок
Внутри ярко освещённого, надувного модуля полевой лаборатории царила стерильная тишина, нарушаемая лишь тихим гулом систем вентиляции. Доктор Аня Шарма и Кендзи Танака, облачённые в лёгкие лабораторные халаты, склонились над герметичным боксом. Внутри него, на стерильной металлической подложке, лежала горстка того самого чёрного песка, который они собрали днём.