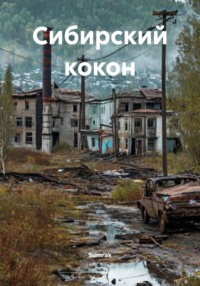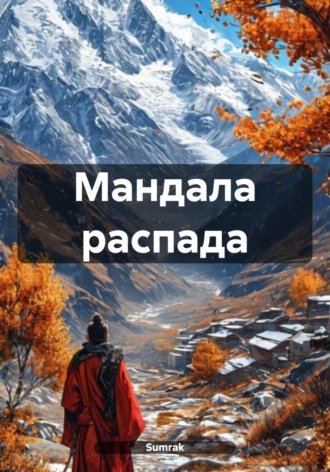
Полная версия
Мандала распада
Его слова, казалось, ударили её физически. Она отшатнулась, её лицо исказилось гримасой, в которой смешались страх, гнев и какая-то почти детская растерянность. Маска треснула окончательно.
– Я… я должна была… – прошептала она, и её голос дрогнул. – Я должна была завершить его работу. Это мой долг. Моё… проклятие. Он оставил мне всё – свои расчёты, свои надежды… и свои страхи. Я думала, что смогу… отделить одно от другого. Использовать силу, но избежать тьмы.
Она подняла на Артёма взгляд, и в нём он увидел не холодного, расчётливого учёного, а измученную, почти сломленную женщину, раздираемую внутренними демонами.
– А ты… твой дар… ты был ключом, – продолжала она, её голос обрёл истерические нотки. – Ты должен был помочь мне настроить «Мост» правильно! Отфильтровать… помехи! Не дать Голосу… взять верх! Но ты… ты видишь только тьму! Ты так долго всматривался в эту бездну, что она начала всматриваться в тебя, и теперь её отражение искажает всё, что ты воспринимаешь!
– Я вижу правду, Елена! – отрезал Артём. – Ту правду, от которой вы бежите, которую пытаетесь скрыть за своими безумными теориями! Нет никакого «правильного» способа открыть Врата в ад! Нет никакого «фильтра» от того, что по ту сторону! Это самообман! И вы это знаете!
Разговор зашёл в тупик. Артём видел, что не сможет её переубедить. Она была слишком глубоко погружена в свои иллюзии, в свою одержимость. Её фанатичная вера в гений отца, смешанная со страхом перед тем, что они пробудили, и, возможно, с отчаянной надеждой на какой-то немыслимый триумф, создали в её душе гремучую смесь, которая уже не поддавалась логике или здравому смыслу.
Она резко поднялась, и теперь в ней не было ни страха, ни растерянности. Только холодная, фанатичная решимость довести дело до конца, переступив через всё – через наследие отца, через его предупреждения и через жизнь Артёма.
– Ты знаешь слишком много, Артём, – процедила она сквозь зубы. – И ты стал слишком опасен. Я не могу позволить тебе помешать. Ни мне. Ни… проекту.
Она нажала какую-то кнопку на коммуникаторе, висевшем у неё на поясе.
– Охрана! – её голос снова стал ледяным и властным. – Изолировать объект Гринева. Категория «Альфа». Любое сопротивление… пресекать на месте.
Артём понял, что это конец. Конец их хрупкого, вынужденного «союза». Конец его надеждам на то, что он сможет достучаться до неё. Теперь она была врагом. Опасным, непредсказуемым, и, возможно, ещё более безумным, чем Крутов.
Дверь распахнулась, и в комнату вошли двое охранников с плазменными винтовками наготове. Их лица были непроницаемы.
Елена посмотрела на Артёма в последний раз. В её взгляде уже не было ни страха, ни растерянности. Только холодная, безжалостная решимость.
– Ты всё равно сделаешь то, что потребуется, Артём, – тихо сказала она, так, чтобы слышал только он. – Рано или поздно. Ради своего сына. Или он заплатит за твоё упрямство. Поверь мне, я найду способ заставить тебя… сотрудничать.
Эти слова стали для Артёма точкой невозврата. Маски были сброшены. И игра перешла на новый, ещё более смертоносный уровень. Он остался один на один со страшным знанием, с искажённым даром, с призраком своего сына, которого он должен был спасти, и с миром, стоящим на краю бездны. И он знал, что должен действовать. Даже если это будет последнее, что он сделает в своей жизни.
Глава 64: Дыхание Разлома
После того, как Елена сбросила маску, оставив Артёма наедине с ледяным ужасом её истинных, фанатичных мотивов, его мир сузился до размеров одиночной камеры, ставшей ещё более глухой и неприступной. Режим ужесточили. Теперь его не просто охраняли – его стерегли, как опасного зверя, как бомбу с часовым механизмом. Короткие прогулки по коридору отменили, еду подавали через специальный люк в двери, а редкие визиты медиков больше походили на конвоирование заключённого, чем на заботу о пациенте. Артём понимал: он больше не «ценный объект», не капризный инструмент, который нужно уговаривать. Он – опасный свидетель, носитель запретного знания, и, что хуже всего, он – потенциальная помеха для грандиозного, безумного плана Елены и, возможно, всё ещё контролирующего её из тени Крутова.
Физически он был разбит. Тело ломило от последствий «калибровки» и тех препаратов, которые ему продолжали вводить под видом «поддерживающей терапии». Но страх за Максима, его образ, окутанный ледяной дымкой, преследовавший Артёма в короткие, рваные минуты забытья, и новое, ужасающее знание о «Северном Мосте» и Голосе из Разлома не давали ему сломаться окончательно. Наоборот, они разжигали в нём холодную, отчаянную решимость.
И «Анатолия» начала отвечать. Или, что было ещё страшнее, Разлом, почувствовав через Артёма слабость этого мира, его уязвимость, сам начал «прощупывать» реальность, используя трещину-спираль как свой расширяющийся зрачок. Сначала это были едва заметные «вздохи» Разлома. По станции, особенно в секторах, прилегающих к реакторному блоку, прокатилась волна мелких, но необъяснимых сбоев. Мерцал свет в коридорах, сбоили электронные замки, на экранах мониторов службы безопасности на доли секунды появлялась рябь или статические помехи. Датчики, контролирующие состояние реактора, начали выдавать странные, скачущие показания, которые техники поспешно списывали на износ оборудования или электромагнитные наводки от работающих систем. Но Артём, даже в своей глухой изоляции, чувствовал своим искажённым, но теперь невероятно чутким даром, что причина не в этом. Это была она. Трещина-спираль. Она дышала. И её дыхание становилось всё более прерывистым и тревожным. Он заметил, или ему так казалось, что частота и интенсивность этих мелких сбоев возрастают не только в те моменты, когда ему вводили очередную дозу «поддерживающих» препаратов, но и в периоды его относительного покоя, словно Разлом сам, независимо от манипуляций с Артёмом, набирал силу, используя его как невольную антенну, как маяк. Или когда его посещал бледный, как смерть, Штайнер в сопровождении двух молчаливых санитаров для «планового медицинского осмотра», который на самом деле был, как он подозревал, очередной скрытой попыткой «измерить» или «скорректировать» его реакцию на что-то.
Через несколько дней «вздохи» Разлома стали отчётливее. Штайнер, который теперь избегал смотреть Артёму в глаза и, казалось, старел на глазах, во время одного из таких «осмотров» не выдержал. Его руки дрожали, когда он пытался прикрепить к вискам Артёма датчики ЭЭГ.
– Оно… оно светится, – прошептал он так тихо, что Артём едва расслышал. Его голос срывался от ужаса. – Трещина… там, в секторе Гамма… она начала светиться. Пульсирующее, мертвенно-бледное свечение. Видно даже через свинцовые экраны. И вибрации… по всему корпусу. Низкочастотные, от них зубы ломит.
Штайнер торопливо закончил процедуру и почти выбежал из камеры, оставив Артёма наедине с этим новым, зловещим знанием. Свечение… Вибрации… Трещина пробуждалась.
Елена не появлялась. Но Артём чувствовал её незримое присутствие, её напряжённый, почти хищный интерес к происходящему. Он был уверен, что она видит в этой аномальной активности не только угрозу, но и подтверждение каких-то своих теорий, возможность для своих безумных экспериментов.
А затем начались искажения времени. Сначала это были слухи, которые доносились до Артёма через тонкие стены его камеры – приглушённые, тревожные голоса техников, обсуждающих «странности» в реакторном блоке. Кто-то из них, работая в непосредственной близости от зоны Гамма, пережил несколько минут, которые потом не мог вспомнить, словно их вырезали из его памяти. У другого часы на руке внезапно перескочили на полчаса вперёд, а потом так же внезапно вернулись к нормальному времени. Предметы, оставленные без присмотра, на мгновение зависали в воздухе или начинали медленно дрейфовать, нарушая все законы гравитации. Крутов и Елена, как он понимал, прилагали все усилия, чтобы скрыть масштабы происходящего, усиливая режим секретности до предела, но паника, как вода, просачивалась сквозь любые преграды.
Однажды вечером, когда Артём, измученный бессонницей и собственными кошмарами, сидел на краю койки, это случилось и с ним. Мир вокруг него на несколько секунд застыл. Звук капающей воды из неисправного крана в углу камеры превратился в одну, протяжную, вибрирующую ноту. Пылинки, танцевавшие в луче света, пробивающемся сквозь щель в зашторенном окне, замерли в воздухе, как мухи в янтаре. А затем, так же резко, время словно сорвалось с цепи, проматываясь вперёд с немыслимой скоростью. Капли из крана застучали с бешеной частотой, тени на стене метнулись, как обезумевшие. Это длилось всего несколько мгновений, но для Артёма они растянулись в вечность. Когда всё вернулось на круги своя, его голова раскалывалась от невыносимой боли, а из носа хлынула кровь. И вместе с этой болью пришла новая, леденящая вспышка видения Голоса из Разлома – теперь он был ближе, настойчивее, его безличный, чужеродный шёпот, казалось, исходил не извне, а из самой глубины его собственного сознания.
Теперь он знал. Или, по крайней мере, чувствовал с ужасающей ясностью. Активность трещины-спирали была напрямую связана с ним. С его состоянием. С теми скрытыми экспериментами, которые над ним продолжали проводить. Но это была уже не односторонняя связь. Разлом, почувствовав «отклик», теперь сам активно тянулся к нему, к этому миру, используя его как проводник, как усилитель своего присутствия. Они всё ещё пытались «настроить» его, «откалибровать» его дар, превратить его в идеальный резонатор, в послушный ключ для «Северного Моста». И каждое такое вмешательство, каждая попытка «усилить» или «направить» его способности вызывала ответную реакцию Разлома, который дышал через трещину, как через рану в теле «Анатолии», и это дыхание становилось всё глубже, всё сильнее, угрожая поглотить не только Артёма, но и всё вокруг. Процесс становился двусторонним и, как он с ужасом осознавал, всё более необратимым.
Во время одного из таких «медицинских сеансов», когда его снова погрузили в медикаментозный сон под предлогом «глубокого сканирования нейронной активности», он «увидел» это с абсолютной, кошмарной отчётливостью. Он стоял не в своей камере, не в лаборатории. Он стоял внутри самой трещины-спирали, в её пульсирующем, мертвенно-бледном свечении. Стены разлома были живыми, они дышали, они извивались, как внутренности гигантского, больного чудовища. И его собственное сердце билось в унисон с этой жуткой пульсацией. Он чувствовал, как его сознание, его воля растворяются, сливаются с чем-то древним, непостижимым, бесконечно чуждым. И Голос из Разлома шептал ему, не словами, а потоком чистой, ледяной информации, проникающей прямо в мозг: «Мы едины… Ты – это я… Я – это ты… Наш час близок… Врата откроются… Ты поможешь мне… Ты хочешь этого…»»
Он проснулся с криком, который застрял у него в горле. Его била крупная дрожь, всё тело было покрыто холодным, липким потом. Охранник, вбежавший в камеру, лишь посмотрел на него с безразличием и что-то коротко доложил по рации. Через несколько минут пришла медсестра и вколола ему очередную дозу «успокоительного».
Но Артём уже знал. Он был не просто ключом. Он был резонатором. Детонатором. Его собственное тело, его искажённый дар стали проводником для той силы, что стремилась вырваться из Разлома. И каждый вздох этой силы приближал катастрофу. «Анатолия» всё глубже погружалась в хаос, её бетонное тело содрогалось от предсмертных конвульсий. И времени, чтобы попытаться что-то изменить, оставалось всё меньше. Дыхание Разлома становилось всё громче, всё отчётливее. И оно звало его.
Глава 65: Нить к Сыну
Ледяная дымка, окутывавшая Максима в его видениях, становилась всё плотнее, всё реальнее. Артём видел её даже наяву, в короткие, мучительные моменты, когда реальность его тюремной камеры подёргивалась рябью, и образ сына, дрожащего от нездешнего холода, вспыхивал перед глазами с болезненной отчётливостью. Каждый новый сбой на «Анатолии», каждый толчок вибрации, проходящий по стенам, отзывался в нём не только предчувствием общей катастрофы, но и острой, невыносимой тревогой за Максима. Он был убеждён, инстинктивно, всем своим истерзанным существом, что его невольная связь с Разломом, с «Северным Мостом», эта дьявольская синхронизация, которую в нём культивировали, напрямую влияет на сына. Словно Максим стал его фантомом, его астральным двойником, принимающим на себя все удары, предназначенные отцу. Необходимость узнать о его состоянии, прорваться сквозь стену молчания, которую воздвигли вокруг него Крутов и Елена, превратилась в навязчивую идею, в единственную цель, способную заглушить всепоглощающий ужас и боль.
Он лихорадочно искал способ. Официальные каналы были мертвы. Его редкие, формальные просьбы о связи с семьёй наталкивались на глухое, вежливое «это невозможно в данный момент» или «мы сообщим вам об изменениях». Он был в информационной блокаде, в вакууме, где единственными звуками были гул «Анатолии» и шёпот его собственных кошмаров. Но отчаяние – мощный стимул. Артём вспомнил о старых, почти выведенных из эксплуатации коммуникационных линиях, которые когда-то связывали отдалённые блоки станции. Он видел их на пыльных схемах, мельком попавшихся ему на глаза ещё до «Омеги», и его дар, даже искажённый, подсказывал, что некоторые из них могут быть ещё активны, пусть и не контролируются центральной системой безопасности так же жёстко, как основные каналы.
План созрел в лихорадочном бреду бессонной ночи. Рискованный, почти самоубийственный, но другого не было. Отчаяние заставило его мозг инженера работать с холодной, лихорадочной точностью. Он мысленно прокручивал старые, ещё довоенные схемы "Анатолии", которые изучал когда-то. Он искал не силу, а слабость. Забытые, списанные, нерентабельные узлы, до которых у системы контроля Крутова просто не доходили руки. Так он вспомнил о секторе "Эпсилон-7" – аппендиксе станции, где когда-то размещался медпункт и резервный диспетчерский пункт. Слишком старый, чтобы его модернизировать, слишком незначительный, чтобы его полностью демонтировать. "Синапсина" у него больше не было, и надеяться на чудо не приходилось. Там, в старом медпункте, мог остаться забытый запас. Там, в пыльной диспетчерской, могла сохраниться неразорванная внешняя линия.
Рискнув всем, он пробрался туда по тёмным коридорам. И ему повезло. В незапертом шкафчике, среди просроченных бинтов и пустых упаковок, он нашёл одну-единственную, забытую кем-то ампулу "Синапсина-М". Это было чудо, подарок судьбы или последняя насмешка кармы. Он знал, что это может его окончательно доконать, что цена за мгновение ясности будет ужасной – возможно, провалом в памяти или обострением слуховых галлюцинаций, но надеялся, что препарат на короткое время даст ему ту сверхчеловеческую концентрацию и обострение чувств, которые были необходимы для этой вылазки.
Дождавшись глубокой ночи, когда коридоры станции погружались в относительную тишину, нарушаемую лишь мерным гулом вентиляции и редкими шагами патрулей, Артём ввёл себе остатки препарата. Мир вокруг него снова взорвался, но на этот раз он был готов. Боль отступила, сменившись ледяной, почти нечеловеческой ясностью. Каждый звук, каждый шорох, каждая тень обрели невероятную чёткость. Он «видел» маршруты патрулей, «чувствовал» слепые зоны камер наблюдения. Словно опытный хищник, он выскользнул из своей незапертой (его уже не считали способным на активные действия) камеры и бесшумно двинулся по тёмным, гулким коридорам.
Его целью был старый, законсервированный диспетчерский пункт в одном из дальних, почти заброшенных секторов «Анатолии» – секторе «Эпсилон-7», который, как он знал из старых, ещё довоенных схем станции, которые ему удалось мельком изучить в архиве Черниговского, и из обрывков разговоров техников, считался неприоритетным, почти списанным. В условиях нарастающего кризиса на «Анатолии», когда все ресурсы были брошены на поддержание функционирования ключевых систем и на подготовку к работе с «Северным Мостом», этот сектор, скорее всего, был оставлен на произвол судьбы, а его системы безопасности, если и работали, то вполсилы, давно не обновлялись и не представляли серьёзной преграды для того, кто знал, куда идти и что искать. Он помнил, что там, среди пыльных пультов и погасших экранов, должен был остаться хотя бы один старый терминал с выходом на внешнюю линию – возможно, забытый или просто не отключённый за ненадобностью. Путь был долог и опасен. Дважды ему пришлось замирать в тёмных нишах, пропуская патрули, их фонари тревожно шарили по стенам, едва не высвечивая его. Сердце колотилось так, что, казалось, его стук слышен за версту, но «Синапсин-М» держал его нервы в ледяных тисках, не давая страху парализовать волю.
Наконец, он достиг цели. Пыльная, полутёмная комната. И он – старый, покрытый пылью коммуникационный терминал. Дрожащими пальцами Артём включил его. Экран нехотя ожил, замерцав зелёными символами. Он открыл заднюю панель – старые, толстые кабели, пыльные разъёмы. Он действовал быстро, на грани инстинктов, вспоминая старые протоколы связи. Замкнул несколько контактов, чтобы обойти систему авторизации, перенаправил питание с аварийной линии на коммуникационный модуль. Это была грубая работа, почти вандализм, но она сработала. Линия была слабой, прерывистой, но она была! Он набрал номер. Старый, почти забытый номер Ольги, который он помнил наизусть, как молитву. Гудки. Длинные, мучительные, каждый отдавался в его мозгу ударом молота.
– Алло? – голос Ольги, сонный, усталый, полный затаённой боли.
– Оля… это я, Артём, – прошептал он, его собственный голос показался ему чужим, хриплым.
На том конце провода на несколько секунд воцарилась тишина. Затем:
– Артём? Что… что тебе нужно? Откуда ты звонишь? С тобой всё в порядке? – в её голосе смешались удивление, недоверие и застарелая обида.
– Оля, умоляю, нет времени объяснять… Максим… как он? Что с ним? – слова вырывались из него с трудом, каждое причиняло невыносимую боль.
– Максим… – голос Ольги дрогнул. – Ему… ему нехорошо, Артём. Врачи… они ничего не понимают. Он стал очень слабым, почти всё время спит. А когда просыпается… он жалуется на холод. Говорит, что ему очень холодно, даже когда в палате жарко. И иногда… иногда он видит… странные сны. Говорит о каких-то… ледяных иглах, о тенях… Бредит, наверное… – она всхлипнула. – Я не знаю, что делать, Артём! Я боюсь… я так за него боюсь! Они говорят, что это… осложнения… но я им не верю! Это всё ты! Твоё проклятие! Оно добралось и до него!
Слова Ольги, её боль, её обвинения – всё это обрушилось на Артёма, как ледяной душ. Он чувствовал, как его сердце сжимается от невыносимой вины и отчаяния. Он хотел что-то сказать, попытаться объяснить, предупредить её, но…
– Спасибо за информацию, Артём Сергеевич, – внезапно раздался в трубке другой голос. Холодный, бесстрастный, до боли знакомый. Голос Крутова. – Мы ценим вашу заботу о сыне. Не волнуйтесь, мы обо всём позаботимся.
Артём замер, его рука с телефоном безвольно опустилась. Шок. Ужас. Осознание того, что его обманули, что этот разговор, эта хрупкая ниточка к сыну, была подстроена, контролировалась с самого начала. Его отчаянная вылазка, его риск – всё это было частью их игры.
– Кстати, Артём Сергеевич, – продолжал Крутов своим ледяным, почти механическим голосом, – состояние Максима действительно вызывает серьёзные опасения. Возможно, ваше более активное и… плодотворное сотрудничество здесь, на «Анатолии», сможет как-то… положительно на него повлиять. Подумайте об этом. Время не ждёт. Ни для вас. Ни для него.
Связь прервалась. Артём остался один, в пыльной, полутёмной диспетчерской, с гудящим в ушах голосом Крутова и ощущением абсолютного, всепоглощающего бессилия. Его последняя надежда, эта тонкая, почти призрачная нить к сыну, обернулась новой, ещё более жестокой пыткой. Крутов не просто контролировал его. Он играл с ним, как кошка с мышкой, наслаждаясь его агонией, его отчаянием.
«Синапсин-М» перестал действовать. На смену эйфорической ясности пришла чудовищная слабость, тошнота, мир вокруг снова начал расплываться, погружаясь в серый, липкий туман. Артём рухнул на пол, его тело сотрясала крупная дрожь. Он не плакал. Слёз больше не было. Была только пустота. Ледяная, бездонная пустота, в которой тонул его разум, его душа.
Он не помнил, как вернулся в свою камеру. Возможно, он сам, на автопилоте, ведомый остатками инстинкта, добрел до неё по пустым ночным коридорам. Но когда он очнулся уже на своей койке от грубого толчка в плечо, над ним стояли двое охранников. Один из них держал в руке его старый, пыльный диктофон. Его нашли. Его последняя вылазка закончилась полным, унизительным разгромом. Но когда он, наконец, рухнул на свою койку, он понял одно. Больше нельзя было ждать. Нельзя было надеяться. Нельзя было играть по их правилам. Он должен был найти другой путь. Радикальный. Окончательный. Даже если этот путь вёл прямиком в самое сердце Разлома. Или в объятия смерти. Это было уже не важно. Важно было только одно – попытаться разорвать эту дьявольскую цепь, связывающую его, его сына и этот проклятый «Северный Мост». Любой ценой.
Глава 66: Карма Места
После того, как ледяной голос Крутова оборвал его отчаянную попытку достучаться до Ольги, до Максима, мир для Артёма окончательно схлопнулся. Он больше не чувствовал ни боли от ран, ни унижения от своего положения. Осталась лишь всепоглощающая, бездонная пустота. Словно из него вынули душу, оставив лишь пустую, дрожащую оболочку. Надежда, этот последний, хрупкий огонёк, который он так отчаянно пытался раздуть, угасла, оставив после себя лишь горький привкус пепла и абсолютный, непроглядный мрак. Он лежал на своей койке, глядя в серый потолок, и мысли, если их можно было так назвать, медленно, вязко текли в его голове, как застывающая смола. Мысли о бессмысленности всего. О тщетности борьбы. О том, что, возможно, проще было бы просто… не быть.
Охранники, заглядывавшие в глазок его камеры, видели лишь неподвижное тело. Медики, приходившие с очередными уколами, фиксировали лишь замедленный пульс и апатичную реакцию на раздражители. Крутов, должно быть, был доволен. Объект «Гринев» наконец-то «созревал», ломался, превращался в то послушное, безвольное существо, которое так легко было бы использовать для его чудовищных планов.
Артём был на самом дне. В той точке, где отчаяние становится настолько всеобъемлющим, что перестаёт быть даже эмоцией, превращаясь в состояние бытия. Или небытия. Он уже не знал.
И именно в этот момент, когда он, казалось, окончательно растворился в этой тьме, он почувствовал это. Не звук, не прикосновение. А нечто иное. Знакомое, почти забытое, но бесконечно родное. Присутствие. Присутствие Доржо.
Серые стены его камеры начали расплываться, терять свои очертания. Монотонный гул «Анатолии», вечный, давящий, стих, сменившись глубокой, почти абсолютной тишиной. Тяжесть, сковывавшая его тело, на мгновение отступила, и он ощутил лёгкость, словно его душа отделилась от измученной плоти. Перед его внутренним взором возник образ: не Байкал, не дацан, а небольшая, залитая мягким, золотистым светом комната, похожая на келью отшельника. В центре, на простой циновке, сидел Доржо. Не его физическое тело, а скорее его сияющая, умиротворённая сущность. Он не смотрел на Артёма, его взгляд был устремлён куда-то вдаль, за пределы этого видения, но Артём чувствовал, что учитель знает о его присутствии, о его боли.
– Ты пришёл к самому краю, сын мой, – голос Доржо прозвучал не в ушах, а прямо в сознании Артёма, спокойный, глубокий, как воды священного озера. – Туда, где тьма кажется единственной реальностью. Но даже в самой глубокой тьме есть искра света, если знать, где искать.
Артём хотел что-то сказать, спросить, взмолиться, но не мог. Он был лишь наблюдателем, слушателем.
– Ты видишь лишь верхушку айсберга, Артём, – продолжал Доржо. – Эти машины, эти эксперименты, эти люди с их амбициями и страхами… это лишь внешнее проявление. Корень зла лежит глубже. В том, что вы, люди Запада, почти забыли, а мы, на Востоке, всё ещё пытаемся сохранить – в знании о карме. Не только о карме человека, но и о карме места. Мы называем это ‘лэй чжаг’.
Доржо медленно поднял руку, и в его ладони появился маленький, гладкий камень, который на мгновение вспыхнул то тёплым, солнечным светом, то покрылся ледяной, ночной изморозью.
– Камень помнит прикосновение солнца и холод ночи. Так и земля, Артём, так и любое место – оно впитывает и хранит энергию всего, что с ним связано: деяний, мыслей, эмоций. Не бывает пустых мест, сын мой, бывают лишь места, чью историю мы не умеем читать. Места, где совершались молитвы, где царили любовь и сострадание, где люди жили в гармонии с природой и друг с другом, – такие места излучают благословение, они исцеляют, они дают силу. Их ‘лэй чжаг’ чист и светел.