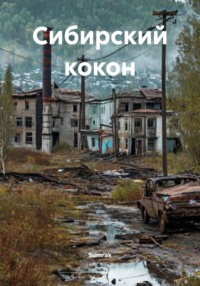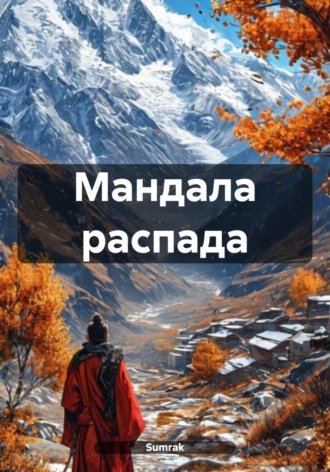
Полная версия
Мандала распада
И стены заговорили.
Сначала это был хаос. Инфернальная какофония из обрывков фраз на разных языках, технических терминов, криков, плача и беззвучного, леденящего душу смеха. Но постепенно, ведомый своим даром, Артём начал различать в этом шуме отдельные голоса. Он видел прошлое этого места не как наблюдатель – он переживал его.
Вот молодой, полный титанической гордыни профессор Черниговский, стоит у этой же стены и возбуждённо диктует что-то в диктофон. Его голос звучит в голове Артёма так ясно, словно он стоит рядом:
«Невероятно! Резонанс подтвердился! Спиральная структура – это не теория, это факт! Мы на пороге величайшего открытия!»
Видения ускорялись, проносясь перед его внутренним взором, как вагоны обезумевшего поезда. Он видел, как Черниговский проводит всё более рискованные эксперименты, повышая мощность, пытаясь «раскрыть» спираль полностью. Видел, как один из ассистентов профессора внезапно падает на колени, крича о «голосах в стенах», и его, обезумевшего, уводят санитары.
А затем Артём увидел самое страшное.
Перед ним снова было лицо Черниговского, но уже другое – искажённое не восторгом, а первобытным, смертельным ужасом. Профессор отшатнулся от стены, его глаза были расширены, на лбу выступил холодный пот.
«Это не просто энергия… – прошептал Черниговский, и этот шёпот был полон ледяного, липкого отчаяния. – Оно… оно разумно. Оно слушает. Оно… отвечает».
В тот же миг Артём почувствовал, как что-то из стены, из самой глубины спирали, потянулось к нему. Не физически, а ментально. Это не было сознание живого существа. Это была сама энтропия, обретшая фокус. Оно не было злым. Оно было неизбежным, как тепловая смерть вселенной. Оно не хотело поглотить его душу. Оно хотело упростить его. Разобрать сложную, упорядоченную структуру его разума, его воспоминаний, его личности на простейшие, хаотичные импульсы. В его голове пронеслось не слово, а чистое, математически холодное понимание распада. Он увидел не монстра, а физический закон, который смотрел на него из трещины в реальности.
Он из последних сил вцепился мыслью в образ обугленного зерна, в тёплое воспоминание о смехе Лиды, в спокойное лицо Доржо. И этим усилием воли он рывком разорвал контакт.
Артём открыл глаза. Его тело сотрясала крупная, неудержимая дрожь, из носа густо текла кровь, капая на свинцовую ткань защитного костюма. Он жадно хватал ртом воздух, который казался густым и тягучим, как сироп.
Он услышал. И он понял. Черниговский в конце своего пути столкнулся не с научной аномалией. Он разбудил живой, мыслящий кошмар.
И этот кошмар теперь знал, что Артём здесь.
Глава 70: Подозрения Крутова: Петля Сжимается
Олег Крутов не верил в призраков. Он верил в данные, в отчёты, в паттерны. Его мир состоял из графиков, сводок и анализа рисков. И сейчас, сидя в своём стерильном, безупречно организованном кабинете, он видел в этих данных аномалию.
На экране его терминала были открыты три окна. Первое показывало необъяснимый, хотя и незначительный, скачок энергопотребления в рабочей ячейке объекта «Гринев» – пик активности, не соответствующий ни одному из протоколов. Второе окно содержало официальный запрос от Елены Черниговской на доступ к старым, почти списанным архивам её отца под предлогом «уточнения теоретических моделей». Третье – рапорт службы безопасности о перемещении объекта «Гринев» в сопровождении охраны в сектор-гамма в ночное время. Официальная причина: «экспериментальная проверка сенсорных реакций на фоновое излучение».
Крутов нахмурился. Данные были неполными, отчёты охраны – расплывчатыми. Он чувствовал, что что-то происходит, но не мог ухватить суть. Его система тотального контроля давала сбой, потому что имела дело с иррациональными факторами: фанатизмом Елены и безумием Артёма. Он ненавидел переменные, которые не мог просчитать. Но у него всегда был запасной план. Метод, который работал безотказно с любыми переменными. Человеческий фактор. Он нажал кнопку селектора:
– Соедините меня с доктором Штайнером. Немедленно.
Штайнера привели в небольшую, звукоизолированную комнату без окон. Разговор начался мягко, почти по-отечески. Крутов с участием расспрашивал о здоровье Артёма, о его психологическом состоянии, об эффективности «терапии».
Штайнер заметно нервничал. Он бледнел, потел, его ответы были уклончивы. Он ссылался на врачебную тайну и прямые распоряжения доктора Черниговской. Тогда Крутов сменил тактику. Он не повысил голос, не стал угрожать. Он просто, почти буднично, заговорил о прошлом.
– Я тут просматривал ваше личное дело, доктор. Вспомнил ту неприятную историю в закрытом НИИ под Новосибирском, лет пятнадцать назад. Какая-то ошибка в расчётах, которая привела к… инциденту. Дело тогда замяли, разумеется. Никто не хочет выносить сор из избы. Но архивы, как вы знаете, не горят.
Петля на шее Штайнера затянулась. Он перестал дышать.
– Я не прошу вас предавать Елену Викторовну, доктор, – голос Крутова был ледяным, как хирургический скальпель. – Я прошу вас выполнять свой долг перед проектом. Государственным проектом. И доложить о любых действиях, которые могут поставить его под угрозу.
Это был конец. Штайнер сломался. Глядя в безупречно отполированный пол, он сдавленным голосом рассказал всё. О странных, не соответствующих официальному плану запросах Елены по архивам. О её одержимости теорией об «осознанной аномалии», которую она считала ключом к работе отца. О ночном визите Артёма в сектор-гамма, который был инициирован ею тайно, в обход всех инструкций.
Крутов слушал, не перебивая. Его лицо не выражало никаких эмоций, но в глубине холодных голубых глаз загорался опасный, хищный огонёк. Его худшие подозрения подтвердились. Елена ведёт свою собственную, безумную игру, используя Артёма как свой личный, мистический инструмент. И эта игра угрожает сорвать его собственный, куда более масштабный и прагматичный план по передаче контроля над «Анатолией» и, в конечном счёте, «Северным Мостом» в нужные руки.
Он вызвал к себе Елену. Атмосфера в его кабинете была наэлектризована до предела. Он снова действовал тонко.
– Елена Викторовна, я обеспокоен. Состояние объекта «Гринев» нестабильно. Ваши… несанкционированные эксперименты могут привести к его полному ментальному коллапсу. А он нам нужен. В рабочем, предсказуемом состоянии.
Елена попыталась защищаться, говорила о необходимости новых подходов, о прорыве в исследованиях, о том, что стандартные методы завели их в тупик. Но Крутов резко оборвал её.
– Прорывы должны быть санкционированы. Я ценю вашу преданность делу отца, но не стоит забывать, что этот проект – уже давно не ваше личное наследие. Он принадлежит государству. И у государства есть свои цели и свои сроки.
Видя, что Елена не собирается отступать, что в её глазах горит фанатичный огонь, который он не сможет потушить словами, Крутов достал свой главный козырь. Он молча повернул к ней один из мониторов на своём столе.
На экране было прямое включение из больничной палаты в Стамбуле. Камера, установленная под потолком, показывала маленькую кровать, на которой лежал Максим. Он был бледен, худ, к его руке была подключена капельница. Рядом с кроватью стояли приборы, их графики медленно, тревожно ползли по экранам.
– Кстати, о сроках, – сказал Крутов тихо, пока Елена с ужасом смотрела на экран, её лицо мгновенно потеряло всю свою холодную уверенность. – Состояние мальчика ухудшается быстрее, чем мы предполагали. Врачи бессильны. Но наши аналитики, как это ни странно, обнаружили прямую корреляцию между его состоянием и стабильностью энергетических полей здесь, на «Анатолии». Похоже, дар вашего общего знакомого создал невидимую кармическую нить между ним и сыном. И теперь, когда мы "настраиваем" отца на Разлом, его сын, как невольный резонатор, ловит это "эхо". Каждый всплеск аномальной активности в секторе-гамма почти синхронно отражается на его сердечном ритме. Странно, не правда ли?
Он сделал паузу, давая яду впитаться.
– Любая дальнейшая дестабилизация здесь, вызванная вашими… изысканиями, может оказаться для него фатальной. Я надеюсь, вы это понимаете, Елена Викторовна. Ваша ответственность теперь не только перед проектом. Подумайте об этом.
Елена смотрела на бледное, беззащитное лицо Максима на экране, затем на холодные, безжалостные глаза Крутова. Она была в ловушке. Петля, которую она считала своей, оказалась в его руках. И теперь она душила не только её, но и Артёма, и ни в чём не повинного ребёнка за тысячи километров отсюда.
Она молча, медленно кивнула, признавая своё поражение в этой партии. Но в тот момент, когда она опустила глаза, в их глубине разгорелась холодная, тёмная, беспощадная ярость.
Глава 71: Маленький Прорыв: Эхо из Прошлого
Прошло несколько дней с той ночи, когда стены реактора заговорили с Артёмом голосом мёртвого профессора. Они с Еленой обменивались короткими, зашифрованными сообщениями через защищённый канал, который она ему предоставила, но их диалог всё больше напоминал разговор слепого с глухим. Они зашли в тупик. Артём описывал свои видения, ужас Черниговского, ощущение разумного, холодного присутствия в Разломе, но для Елены это оставалось слишком абстрактным, слишком похожим на бред, порождённый радиацией и стрессом. Данные со штатных датчиков были «грязными» – они фиксировали лишь грубые всплески температуры и нейтронных потоков, но не ту «тонкую материю» аномалии, о которой говорил Артём.
«Мне нужны доказательства, Артём, – гласило её последнее сообщение, холодное и безличное. – Измеримые, повторяемые данные. Без этого всё, что ты говоришь, – просто слова, которые Крутов назовёт галлюцинациями и использует против нас обоих, чтобы оправдать свои самые радикальные методы».
Они оба понимали: стандартными методами им не продвинуться. Им нужно было что-то более точное. Что-то, что могло бы услышать шёпот, а не только рёв.
Елена решилась на отчаянный шаг. Она вызвала к себе Игоря Сомова, пожилого, угрюмого ведущего инженера КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики), чьё лицо, казалось, состояло из одних морщин и векового недоверия ко всему новому. Он работал ещё с её отцом, был безгранично ему предан и тихо, по-стариковски, ненавидел «эффективных менеджеров» вроде Крутова, которые, по его мнению, не отличали синхрофазотрон от кофеварки. Елена знала, что он – её единственный и последний шанс.
Она не стала посвящать его во все детали безумия, творящегося в голове Артёма. Она говорила с ним на языке, который он понимал и уважал: на языке науки и верности. Она разложила перед ним на столе старые чертежи отца и распечатки с новыми, хаотичными данными.
– Игорь Семёнович, они губят его работу, – сказала она тихо, но твёрдо. – Они не понимают сути. Они видят лишь цифры, но не видят музыку за ними. Мне нужен датчик, который сможет уловить то, что пропускают их стандартные системы. Мне нужен ваш лучший, экспериментальный прибор. И мне нужно, чтобы вы установили его тайно.
Старый техник долго молчал, его взгляд был устремлён на портрет профессора Черниговского, висевший на стене. Затем он тяжело вздохнул и коротко кивнул.
– Для Виктора Николаевича – всё, что угодно, Леночка.
Под покровом ночи, во время короткого «окна» при смене патрулей, они пробирались к сектору-гамма. Их было трое: Елена, Артём, которого она вывела из ячейки под предлогом очередного «срочного теста», и Игорь Сомов, несущий в руках небольшой, но тяжёлый контейнер. Это была короткая, но невероятно напряжённая операция. Игорь, чьи морщинистые руки работали с точностью и скоростью, немыслимой для его лет, извлёк из контейнера небольшой, похожий на металлического паука, датчик и быстро закрепил его в тёмной нише рядом с трещиной-спиралью. Затем он подключил его к скрытому оптоволоконному кабелю, который в обход центральной системы мониторинга вёл прямо в её лабораторию.
Артём стоял на страже. Его дар, обострённый до предела, работал как система раннего оповещения. Он не слышал – он чувствовал размеренные шаги патруля за два коридора от них. В какой-то момент он ощутил резкое изменение в их ритме, понял, что они свернули в их сторону.
– Идут, – прошептал он.
Они замерли в глубокой тени за выступом стены, почти не дыша. Тяжёлые ботинки охраны простучали совсем рядом, луч фонаря тревожно метнулся по противоположной стене и ушёл дальше. Их общее дело, общий смертельный риск на эти несколько мгновений сплотили их в настоящую, отчаянную команду.
Вернувшись в лабораторию, Елена немедленно вывела данные с нового датчика на главный экран. Сначала на нём была лишь ровная, почти безжизненная линия.
– Теперь ты, Артём, – сказала она, её голос был напряжён. – Делай то, что делал тогда. Просто… думай о ней.
Артём сел в кресло. Он был измотан, но адреналин гнал кровь по венам. Он закрыл глаза и сосредоточился, вспоминая то ощущение, тот резонанс. Он снова представил себе мертвенное свечение, исходящее из глубины трещины, снова почувствовал тот низкочастотный гул, что пробирал до костей.
И в тот же миг ровная линия на мониторе сорвалась с места, превращаясь в острый, зазубренный пик, похожий на график сердечного приступа.
– Хватит, – сказала Елена.
Он прекратил концентрацию, тяжело дыша. Линия на экране тут же опала, снова став почти ровной.
– Ещё раз.
Он снова погрузился в воспоминание. И линия снова взлетела вверх.
Они смотрели на экран, затаив дыхание. Это было оно. Прямое, измеримое, неопровержимое доказательство. Его дар, его «безумие» напрямую влияло на физическую реальность, и этот маленький, собранный старым техником датчик был способен это зафиксировать. Это был их маленький, но решающий прорыв.
Потрясённая, Елена отошла от главного терминала и села за свой личный компьютер. Она начала лихорадочно просматривать старые семейные архивы, оцифрованные фотографии, пытаясь найти хоть что-то, хоть малейшую зацепку, которая могла бы объяснить природу этой дьявольской связи.
Память подбросила ей обрывок из далёкого прошлого. Ей шестнадцать, они с отцом сидят в его кабинете, и он, двигая фигуры на старой деревянной доске, говорит: «Наука, Лена, это не просто расчёты. Это элегантность. Как в шахматах. Иногда, чтобы победить, нужно пожертвовать королевой, и это самый сложный ход, который не просчитает ни одна машина». На его столе всегда стояли эти шахматы, и он часто говорил, что все его проекты – это одна большая партия против хаоса. Это воспоминание, тёплое и болезненное, мелькнуло и погасло.
И тут она нашла её.
Старая, выцветшая фотография, сделанная в конце 70-х на какой-то закрытой научной конференции в Дубне. На ней – её отец, молодой, полный энергии и титанических амбиций, с горящими глазами. А рядом с ним, в строгом, немного нелепом советском костюме, но с такими же умными, пронзительными глазами, стоял совсем ещё молодой, тогда ещё не лама, а перспективный физик-ядерщик Доржи Бадмаев.
И они стояли не просто так. Они стояли у макета какого-то странного, неизвестного ей реактора, в конструкции которого безошибочно угадывались те самые спиральные, закрученные элементы.
Елена перевела взгляд с фотографии на Артёма, который, обессиленный, сидел в кресле, приходя в себя после ментального напряжения. И все разрозненные части головоломки – буддийский лама из рассказов Артёма, гениальный физик-ядерщик, которым был её отец, проклятый дар, передающийся через поколения или через учение, и спираль в сердце реактора – внезапно начали складываться в единую, пугающую, но осмысленную картину.
Прошлое и настоящее сошлись в этой точке, в этой тёмной лаборатории на краю света. И она с ужасом поняла, что история «Анатолии» началась задолго до её строительства. Она началась там, на старой, выцветшей фотографии, где двое гениев, один из которых выбрал путь науки, а другой – путь духа, с одинаковым восторгом смотрели на модель машины, способной изменить мир. Или уничтожить его.
Глава 72: Голос Максима: Надежда или Иллюзия?
Артём уже несколько часов не отрывался от терминала, его сознание было вязким, как смола, от усталости и напряжения. Он пытался найти новые корреляции между спиральным кодом Черниговского и данными с экспериментального датчика, но каждая новая находка лишь глубже погружала его в пучину безумия, открывая новые пласты аномалий. Внезапно на защищённом канале связи, который связывал его с Еленой, вспыхнуло короткое сообщение:
«Приготовься. Через десять минут у тебя будет видеосвязь со Стамбулом. С твоей семьёй».
Артём замер. Его первая реакция – волна ледяного, едкого гнева. Очередная манипуляция. После того, как Крутов так безжалостно использовал его сына как рычаг давления, этот жест казался верхом цинизма. Его пальцы уже печатали резкий ответ: «Это ещё одна игра Крутова?»
Ответ Елены пришёл мгновенно.
«Это моя игра. Крутов об этом не знает. Я обошла его протоколы безопасности. Ты нужен мне в рабочем состоянии, а не на грани полного срыва. Считай это… авансом за будущие прорывы. Или просто напоминанием о том, ради чего ты всё это делаешь».
Артём смотрел на её слова, не зная, верить ли ей. Ложь была воздухом, которым они все здесь дышали. Но отказаться он не мог. Сама возможность увидеть Максима, услышать его голос, перевешивала любой риск, любую манипуляцию. Это была наживка, и он был готов проглотить её вместе с крючком.
Ровно через десять минут главный экран его терминала мигнул и ожил. Изображение было ужасным: оно постоянно рассыпалось на пиксели, звук шёл с задержкой и прерывался шипением. Елена смогла пробить лишь крошечную, нестабильную щель в стене цифровой блокады Крутова, и было чудом, что связь вообще установилась. Но сквозь рябь проступили очертания больничной палаты. У окна, спиной к камере, стояла женщина. Ольга.
Она медленно повернулась. Её лицо было уставшим, осунувшимся, словно с него стёрли все краски. В зелёных глазах, которые он когда-то так любил, теперь плескалась лишь застарелая боль и глубокая, почти непробиваемая обида. Он заметил, как она до боли сжимает в руке край больничной простыни, как едва заметно дрожит её нижняя губа, прежде чем она взяла себя в руки.
– Здравствуй, Артём, – её голос был ровным, но чуть более низким, чем обычно, словно она прилагала усилия, чтобы он не сорвался. Так говорят с чужим человеком, с которым вынуждены делить одно пространство в лифте.
Он попытался что-то сказать, спросить, как она, но слова застряли в горле. Между ними лежала пропасть из лет, невысказанных упрёков и его страшного дара. Она не задавала вопросов, не кричала, не обвиняла. Её холодная, отстранённая вежливость ранила сильнее любого ножа.
– Мама, кто это? – раздался тихий, слабый детский голос из-за кадра, и сердце Артёма пропустило удар.
Ольга отошла в сторону, и камера сфокусировалась на кровати. Там, подперев спину подушками, сидел Максим. Он был худенький, бледный, с большими, не по-детски серьёзными глазами, так похожими на его собственные. К тыльной стороне его ладони был приклеен пластырь, из-под которого выглядывал тонкий катетер. Но не это испугало Артёма. Он увидел, как от кончиков пальцев мальчика исходит едва заметная, почти невидимая глазу холодная дымка, похожая на дыхание в морозный день. Та самая дымка, которую он видел в своих видениях.
– Папа? – прошептал он, и в этом единственном слове было и узнавание, и вопрос, и удивление.
У Артёма перехватило дыхание. Он не мог вымолвить ни слова, лишь судорожно кивнул, чувствуя, как по щеке катится горячая, неудержимая слеза. Всё, ради чего он страдал, весь его личный, тщательно выстроенный ад – всё это обрело смысл и одновременно стало в тысячу раз невыносимее в этот самый момент, глядя в глаза своему сыну.
Максим, видя лицо отца на экране, слабо улыбнулся и потянулся к небольшому планшету для рисования, который лежал у него на коленях. Он неуверенно, слабой рукой, начал что-то выводить пальцем на светящейся поверхности.
– Смотри, папа, – сказал он, его голос был едва слышен. Он поднёс планшет к камере. – Это твоя дорога. Я её рисую каждый день, чтобы ты не заблудился и вернулся.
На экране планшета была нарисована спираль. Та самая, которую Артём видел в трещине реактора, в расчётах Черниговского, в своих кошмарах. Но в рисунке сына она была другой – не зловещей и пугающей, а простой, наивной, почти трогательной. Это был не код распада. Это была нить Ариадны, брошенная ему сыном через тысячи километров и через бездну отчаяния.
– Я… я вижу, сынок, – с трудом выдавил из себя Артём, задыхаясь от подступивших слёз. – Спасибо. Я не заблужусь.
Связь начала умирать. Изображение замерцало, по экрану пошли широкие полосы помех, голос Максима утонул в цифровом шуме. Елена не могла долго удерживать этот хрупкий канал. В последний момент Артём перевёл взгляд с сына на Ольгу. Она стояла в стороне, её лицо по-прежнему было холодной, непроницаемой маской. Но их взгляды встретились.
И за стеной обиды и отчуждения, за бронёй гнева, Артём увидел то, что она так тщательно скрывала. Бесконечное, всепоглощающее отчаяние. Первобытный страх матери за своего ребёнка, её бессилие перед непонятной болезнью, её затаённая, похороненная под слоями обид боль. Он увидел, как по её щеке медленно скатилась одна-единственная слеза, которую она тут же яростно, почти незаметно, смахнула тыльной стороной ладони. В её глазах не было прощения. Но была мольба. Безмолвная, отчаянная мольба о спасении их сына, обращённая к единственному человеку, которого она считала виновником и одновременно – последней, безумной надеждой.
Эта молчаливая мольба ударила по Артёму сильнее, чем любой крик. Чувство вины обожгло его, как расплавленный металл. Но вместе с ним пришла и новая, тёмная, почти нечеловеческая решимость.
Экран погас.
В ячейке снова воцарилась глухая тишина, прерываемая лишь ровным гулом станции. Артём сидел, не шевелясь, глядя в тёмный экран, на котором всё ещё, как фантом, стоял образ его сына со спиралью в руках.
Звонок не принёс ему облегчения. Он принёс боль, вину и страшную, ледяную ясность. Елена добилась своего. Этот разговор стал для него тем самым «авансом», тем напоминанием, которое было ему необходимо. Но он укрепил не её послушного союзника. Он укрепил человека, готового на всё.
Он больше не боялся Разлома. Он не боялся Крутова. Он не боялся даже собственной смерти. Единственное, чего он по-настоящему боялся – это холод, который он видел в глазах своего сына. И он был готов сгореть в любом аду, чтобы погасить этот холод.
Надежда и иллюзия слились воедино, превратившись в топливо для его последнего, отчаянного рывка. Он резко повернулся к терминалу, и его пальцы с новой, яростной силой забегали по клавиатуре. Времени оставалось всё меньше.
Глава 73: Наследие Черниговского: «Проект Феникс»
Видеозвонок оборвался, оставив в стерильном воздухе лаборатории тяжёлый, густой осадок чужой боли. Елена долго смотрела на погасший экран, где ещё мгновение назад было бледное лицо Максима и отчаянные глаза Артёма. Она видела, как дёрнулась линия на графике аномальной активности в тот самый момент, когда мальчик нарисовал на экране спираль.
Все эти разрозненные, иррациональные факты – фотография отца с молодым Доржо, математический код спирали, видения Артёма, болезнь его сына – больше нельзя было игнорировать или списывать на помехи. Её научная картина мира, такая стройная, логичная и предсказуемая, дала трещину, и сквозь неё сквозил ледяной, потусторонний холод.
Она поняла, что в архивах отца, которые она, как ей казалось, изучила вдоль и поперёк, не хватает самого главного. Должно быть что-то ещё. Что-то, что он спрятал так глубоко, что даже она, его дочь и наследница, не смогла до этого добраться. Что-то, что связывало физика-ядерщика Доржи Бадмаева, спиральную аномалию и странный макет реактора на старой фотографии. Ведомая смесью научного азарта и дочернего долга, она начала новый, ещё более глубокий поиск.
Елена села за свой личный терминал, отгородившись от остального мира. Она снова и снова перебирала старые, зашифрованные файлы отца, которые ранее отложила как «повреждённые» или «несущественные черновики». И вскоре она заметила странность: в нескольких таких файлах использовался совершенно другой, нетипичный для её отца алгоритм шифрования. Он был нелогичным, хаотичным, почти артистичным. Он был основан не на стандартных криптографических ключах, а на чём-то ином. Прошли долгие, изматывающие часы. Она перепробовала десятки стандартных алгоритмов дешифровки, но всё было тщетно. Она уже была готова сдаться, когда, в полном отчаянии, её память подбросила ей образ из прошлого, не имеющий, казалось бы, никакого отношения к науке.
И тут её осенило. Волна воспоминаний из далёкого прошлого. Ей шестнадцать, они с отцом сидят за шахматной доской в его старом кабинете. Он показывает ей запись знаменитой партии, которую шахматисты называют «Бессмертной». «Посмотри, Лена, – говорил он тогда, его глаза горели восторгом. – Это не просто игра. Это идеальная, жертвенная логика. Чтобы победить, нужно быть готовым отдать свои самые сильные фигуры».