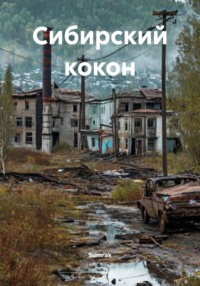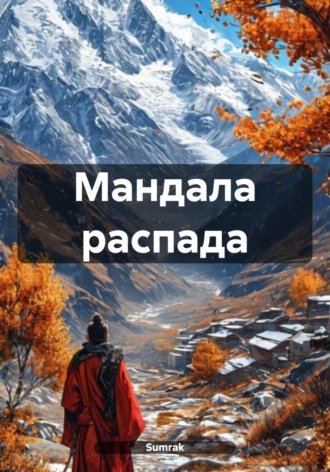
Полная версия
Мандала распада
Оставалась Елена.
Мысль о ней вызывала у Артёма сложную смесь отвращения, страха и… какой-то извращённой, отчаянной надежды. Она была опасна, непредсказуема, её истинные мотивы оставались для него загадкой. Она использовала его, манипулировала им, участвовала в шантаже Максимом. Но она была единственной, кто обладал реальными знаниями о проекте, доступом к ресурсам, к информации. И, что самое важное, у неё была своя, личная, почти фанатичная одержимость – наследие её отца. Если он сможет правильно сыграть на этом, если сможет убедить её, что трещина-спираль, этот зияющий разлом в сердце «Анатолии», представляет угрозу не только для него или для станции, но и для дела всей её жизни… возможно, он получит шанс. Шанс узнать больше. Шанс действовать.
Он достал из-под рубашки мешочек с камнем и обугленным зерном. Прикосновение к ним немного успокаивало, заземляло. Но он понимал: эти артефакты, его слабеющий дар – этого было слишком мало против мощи «Анатолии» и холодной решимости её хозяев.
Решение пришло не сразу. Он несколько дней взвешивал все «за» и «против», прокручивая в голове возможные сценарии. Обратиться к Елене – это как заключить сделку с дьяволом, или, по крайней мере, с очень опытным и опасным хищником, который в любой момент может вонзить клыки тебе в горло. Она могла использовать любую информацию против него, передать её Крутову, или её собственные цели могли оказаться ещё более разрушительными, чем он предполагал.
Но бездействие было равносильно самоубийству. Или, что хуже, соучастию в глобальной катастрофе.
«Время истекает», – эта мысль билась в его мозгу, как пойманная птица. Он должен был рискнуть.
Он решил, какую часть информации он может ей раскрыть. Не всё. Не о Лиде, не о Голосе из Разлома, не о полной картине «Северного Моста», которую он «увидел». Лишь достаточно, чтобы заинтересовать её, напугать, заставить усомниться в том, что всё идёт по плану её отца. Намёк на трещину, на её аномальную природу, на её возможную связь с нестабильностью реактора. И его собственная, уникальная способность «чувствовать» эту аномалию. Это могло стать его разменной монетой.
Он достал из тайника под матрасом несколько листков бумаги, на которых в минуты отчаяния или просветления лихорадочно зарисовывал спирали, увиденные им, пытался набросать схемы того, как он «ощущает» энергетические потоки вокруг трещины. Это были не чертежи, а скорее каракули безумца, но для Елены, с её острым умом, они могли стать намёком.
Теперь нужно было выбрать момент. Он не мог просто подойти к ней в коридоре или в столовой – их могли подслушать, увидеть. Нужна была уединённая обстановка. Её лаборатория, где она часто работала одна допоздна? Или то заброшенное крыло административного корпуса, где находился кабинет её отца, и куда, как он знал, она иногда приходила, чтобы побыть наедине со своими мыслями и его наследием?
Он выбрал второе. Это было символично. И, как он надеялся, более безопасно.
Несколько дней он выслеживал её, стараясь не привлекать внимания. Наконец, поздним вечером, когда большая часть персонала уже покинула станцию или разошлась по своим блокам, он увидел, как Елена, бледная и уставшая, направилась в сторону старого корпуса. Его сердце заколотилось. Это был его шанс.
Он догнал её в длинном, тускло освещённом коридоре, ведущем к кабинету профессора Черниговского.
– Елена, – его голос прозвучал хрипло, неуверенно.
Она резко обернулась, её рука инстинктивно потянулась к карману, где, как он знал, она всегда носила небольшой плазменный пистолет. Увидев его, она немного расслабилась, но во взгляде осталась настороженность.
– Артём? Что ты здесь делаешь? Тебе не разрешено покидать свой блок без сопровождения.
– Мне нужно с тобой поговорить, – сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее. – Это важно. Очень важно. И это касается… дела твоего отца.
Упоминание отца заставило её нахмуриться, но и остановило.
– О чём ты? – спросила она холодно.
– О «Протоколе Омега». О «Северном Мосте». И о том, что может помешать всему этому… или превратить это в нечто гораздо более страшное, чем ты можешь себе представить.
Они вошли в пыльный, заброшенный кабинет профессора Черниговского. Здесь, среди призраков прошлого, Артём чувствовал себя немного увереннее. Елена молча ждала, скрестив руки на груди, её лицо было непроницаемым.
– Я знаю, ты считаешь меня… нестабильным, – начал Артём, тщательно подбирая слова. – Возможно, ты права. Но то, что я чувствую… то, что я вижу… это не просто игра моего воображения. Я говорю о секторе-гамма. О той аномалии в защитной оболочке реактора.
Елена слегка приподняла бровь.
– Штайнер докладывал о некоторых незначительных флуктуациях. Обычные дефекты старения материала. Ничего серьёзного.
– Это не «незначительные флуктуации», Елена, – Артём посмотрел ей прямо в глаза. – Это… рана. Рана, которая растёт, которая живёт своей жизнью. И она имеет очень специфическую форму. Спираль.
Он увидел, как её лицо на мгновение изменилось. Удивление? Недоверие? Или… узнавание? Он не мог понять.
– Я думаю, – продолжил он, решив рискнуть, – твой отец знал об этом. Или, по крайней мере, догадывался. В его последних записях… там были намёки.
Он достал из кармана сложенные листки бумаги со своими неровными рисунками спиралей, с какими-то пометками, которые он сделал, пытаясь описать свои ощущения. Он протянул их ей.
Елена взяла листки, несколько мгновений внимательно их рассматривала. Её лицо оставалось бесстрастным, но Артём заметил, как напряглись её пальцы.
– Это… любопытно, – сказала она наконец, возвращая ему рисунки. – Но это могут быть просто твои… фантазии, Артём. Твой дар, твоя связь с этим местом… они искажают твоё восприятие.
– Возможно, – не стал спорить он. – Но я могу «чувствовать» эту спираль. Я могу сказать, когда она «активна», когда её влияние усиливается. Я могу быть твоими глазами и ушами там, куда не достанут никакие приборы. Я думаю, эта аномалия напрямую связана с чёрным песком. И с тем, что вы пытаетесь сделать с помощью «Омеги» и «Северного Моста». Если она выйдет из-под контроля… всё, над чем работал твой отец, всё, ради чего ты здесь… всё это может превратиться в прах. Или в нечто гораздо худшее.
Он сделал паузу, давая ей время осмыслить его слова.
– Мне нужен доступ, Елена, – сказал он твёрдо. – Доступ к более детальным схемам реактора. К данным датчиков из того сектора. К архивам твоего отца, которые ты, возможно, ещё не успела изучить или которые скрываешь от Крутова. Я хочу понять природу этой трещины. И, возможно, найти способ… её контролировать. Или нейтрализовать. Прежде чем она уничтожит нас всех. Взамен… я поделюсь с тобой тем, что смогу «увидеть». Информацией, которая может оказаться для тебя жизненно важной.
Это был блеф. Отчаянный блеф. Он не был уверен, что сможет что-то «контролировать». Но он должен был заставить её поверить.
Елена долго молчала, её тонкие пальцы нервно теребили край планшета, на котором всё ещё светились каракули Артёма. Спирали… Они до боли напоминали те неясные, тревожные эскизы, что она видела в последних, почти бредовых тетрадях отца. Его предупреждения о «резонансных напряжениях», о «риске каскадного разрушения при неконтролируемой активации монацитовых полей»… Тогда она списала это на его угасающий разум, на паранойю, подогреваемую давлением «кураторов». Но теперь…
Доклады Штайнера об аномальных всплесках энергии в секторе-гамма, его почти суеверный страх перед этим местом. Странное, почти сверхъестественное поведение этого Гринева, его необъяснимая связь с реактором, его почти безумные, но пугающе точные (как оказалось после её «проверки») намёки. Что, если отец был прав? Что, если эта «спираль» – не бред сумасшедшего, а реальная, скрытая угроза, способная уничтожить всё, ради чего он жил и умер? И ради чего теперь живёт она. Уничтожить не просто станцию, а саму возможность реализовать его великий замысел – «Северный Мост».
Она посмотрела на Артёма. Его запавшие глаза горели лихорадочным, почти безумным огнём, но в них была и какая-то пугающая уверенность. Использовать его? Опасно. Он нестабилен, непредсказуем. Доверять ему? Невозможно. Он сам может быть частью проблемы, его дар мог спровоцировать эти аномалии. Но игнорировать его слова… это могло быть ещё опаснее. Если он действительно «чувствует» эту аномалию, если он может дать хоть какой-то ключ к её пониманию, она должна была рискнуть. Ради отца. Ради проекта, который стал смыслом её жизни. Даже если придётся испачкать руки, связавшись с этим… полубезумным провидцем. Страх потерять всё, страх, что наследие отца будет похоронено под обломками «Анатолии» или извращено планами Крутова, перевесил её осторожность.
– Хорошо, – сказала она наконец, и её голос был тихим, но в нём звенела сталь, скрывающая эту внутреннюю бурю. – Я подумаю, что можно сделать. Какой информацией я могу с тобой поделиться. Но учти, Артём, – её глаза сверкнули сталью, – это будет мой эксперимент. И ты будешь работать по моим правилам. Любая попытка обмануть меня, использовать эту ситуацию в своих целях, о которых я не знаю… и наш «союз» закончится. Очень быстро. И очень плохо для тебя. Ты меня понял?
Артём кивнул. Он понимал. Это был не союз равных. Это была сделка с хищником, который в любой момент мог передумать и разорвать его на части. Но это был шанс. Единственный шанс, который у него был.
– Я понял, – сказал он.
Они разошлись в гнетущей тишине, каждый со своими мыслями, своими страхами и своими тайными планами. Союз поневоле был заключён. Хрупкий, как стекло, опасный, как минное поле. Но это был первый шаг. Шаг в неизвестность, которая могла привести их либо к спасению, либо к ещё более страшной катастрофе.
Артём вернулся в свой блок, чувствуя, как обугленное зерно на его груди словно потеплело. Или это ему просто показалось от пережитого напряжения. Он не знал, что ждёт его впереди. Но он знал, что больше не будет просто пассивной жертвой. Он будет бороться. До конца. Каким бы этот конец ни был.
Дыхание бездны
Глава 57: Цена «Восстановления»
Первым был звук – мерный, бездушный писк медицинского монитора, пробивающийся сквозь ватную пелену забытья. Затем пришла боль. Она вгрызалась в каждую клетку, пульсировала в висках раскалённым металлом, ломала кости ледяными тисками. Артём попытался вдохнуть, но лёгкие обожгло, словно он глотнул битого стекла. Воспоминания, острые, как осколки, рванули сознание: оглушающий, нечеловеческий гул «Протокола Омега», ощущение холодных игл интерфейса, впивающихся не в кожу, а прямо в нервные сплетения его дара, слепящий хаос цветов и форм, в который превратился мир, ощущение, будто его собственное тело и разум разрывают на части, расщепляют на атомы… Он выжил. Но это осознание не принесло облегчения, лишь волну тошнотворного ужаса.
Он медленно, с неимоверным усилием разлепил веки. Стерильная белизна палаты резанула по глазам. Трубки, провода, капельница с мутной жидкостью, лениво стекающей в его вену. Рядом, бесшумно, как призрак, двигалась медсестра в идеально белом халате, её лицо – непроницаемая маска профессионализма. Он попытался что-то сказать, но из горла вырвался лишь хрип.
Так началось его «восстановление». Белые халаты сменяли друг друга, их движения были выверены, голоса – ровны и безэмоциональны. В его тело вливали коктейль из препаратов: мощные синтетические опиоиды, вроде «Трамацетина-Форте», от которых реальность расплывалась, превращаясь в тягучий, тошнотворный кисель, а боль не исчезала полностью, а лишь отступала, прячась за мутной пеленой, готовая в любой момент вернуться с новой силой, и иногда он ловил себя на коротких провалах в памяти, не в силах вспомнить, что делал или о чём думал всего несколько минут назад; атипичные нейролептики нового поколения, с маркировкой «Кластер-7», предположительно для подавления психотических реакций и стабилизации нейронной активности, погружающие в короткие, тяжёлые сны, полные криков и вспышек света, после которых он просыпался с ощущением диссоциации, будто наблюдает за собой со стороны, а его эмоции были притуплены, как под толстым слоем ваты, и мир казался плоским, лишённым красок; и что-то ещё, экспериментальный ноотропный комплекс «Синапсин-М», как он позже разобрал на ампулах, с неясным механизмом действия, отчего по венам разливалось то ледяное оцепенение, сопровождаемое странным металлическим привкусом во рту, то странный, почти эйфорический жар, когда его мозг, казалось, работал на запредельных частотах, обрабатывая информацию с невероятной скоростью, но при этом он чувствовал, как истончаются синаптические связи, как перегорают нейроны, сменяющийся затем глубоким, бездонным провалом. Он чувствовал себя подопытным кроликом, пришпиленным к лабораторному столу, его тело и разум – полигон для чужих, непонятных экспериментов. Попытки сопротивляться, отказаться от очередного укола или таблетки, наталкивались на глухую стену профессионального безразличия или, если он проявлял настойчивость, на едва заметную угрозу в глазах санитаров, маячивших за спиной медсестры. Он был слишком слаб, слишком разбит.
На третий день, или, может, на пятый – время потеряло для него всякий смысл – в палату вошёл Крутов. Безупречный костюм, холодный, изучающий взгляд голубых глаз, лёгкая, почти отеческая улыбка, от которой по спине Артёма пробегал мороз.
– Рад видеть вас в сознании, Артём Сергеевич, – голос Крутова сочился фальшивой заботой. – Переживали мы за вас. Но, как видите, наши специалисты творят чудеса. Вам необходимо как можно скорее восстановиться. Государство… страна ждёт от нас результатов. Новая задача, ещё более ответственная, требует полной отдачи.
Крутов присел на край стула, который предусмотрительно придвинул к койке один из его молчаливых спутников.
– Я, кстати, только что получил сводку из Стамбула, – продолжил он, «случайно» роняя на прикроватную тумбочку сложенный вдвое лист бумаги. – Состояние вашего сына… оно, к сожалению, остаётся нестабильным. Каждый день на счету. Мы все очень надеемся, что вы быстро пойдёте на поправку. Ради всех нас. И, разумеется, ради него.
Глухая, бессильная ярость вскипела в Артёме, но тут же захлебнулась в волне слабости и отчаяния. Он всё понял. Клетка не исчезла, лишь стены её стали толще, а цепи – короче.
Крутов поднялся, оправил пиджак.
– Выздоравливайте, Артём Сергеевич. Мы на вас рассчитываем.
После визита «благодетеля» начался новый этап кошмара. Дар, его проклятый дар, который, как он надеялся, сгорел в адском пламени «Омеги», вернулся. Но это был не тот дар, что он знал. Он был искажён, изломан, превращён в орудие пытки. Видения стали агрессивными, навязчивыми, они не просто приходили – они врывались в его сознание, разрывая его, как хищные звери. Он больше не видел трещины в будущем так, как раньше; теперь это были скорее болезненные «энергетические сигнатуры» людей и объектов, их искажённые «кармические следы», несущие в себе лишь угрозу и боль. Он перестал слышать «шёпот времени», вместо него был постоянный «статический шум» в голове, словно его внутренние «сенсоры» были перегружены и необратимо повреждены, и сквозь этот шум иногда пробивался ледяной, безличный «голос» технологий – возможно, отголосок того самого интерфейса «Омеги». Образы «Северного Моста», которые и раньше вызывали у него тревогу, теперь превратились в ожившие кошмары. Он видел его не как инженерное сооружение, а как гигантское, многоглазое, ледяное существо, тянущее свои тёмные, кристаллические щупальца к самому сердцу мира, высасывающее из него жизнь. Эти видения сопровождались невыносимой физической болью, словно его тело тоже пытались превратить в часть этого ледяного монстра. Иногда ему казалось, что стены палаты покрываются инеем, а из углов на него смотрят эти немигающие, чужеродные глаза. Он кричал, метался, но его крики тонули в ватной тишине, или их принимали за бред, вливая очередную дозу «успокоительного».
Постепенно, сквозь муть лекарственного тумана, сквозь боль и ужас, к Артёму начало приходить страшное, леденящее душу понимание. Его не лечили. Его «чинили». Его «калибровали». Провал «Протокола Омега» не стал финалом. Он был лишь неудачным тестом, после которого инструмент решили не выбросить, а… модифицировать. Те неизвестные препараты, которые ему вводили, та странная «терапия» – всё это было направлено на то, чтобы изменить его дар, сделать его более «отзывчивым», более «управляемым» для новых, ещё более чудовищных задач, связанных с «Северным Мостом». Он с ужасом вспоминал обрывки фраз, подслушанных у медиков или во время коротких визитов Елены, говорившей с Крутовым по защищённой связи: «резонансная калибровка нейронной активности под частоты Моста», «синхронизация с нулевыми полями для усиления темпоральной восприимчивости». Он чувствовал, как его собственная личность, его воспоминания, его боль – всё это стирается, вытесняется чем-то холодным, безличным, чужеродным. Но где-то в самой глубине, в том уголке сознания, куда, казалось, не могли добраться ни препараты, ни чужая воля, теплилась искра. Он цеплялся за неё, как утопающий за обломок мачты. Он мысленно повторял имена – Лида, Максим, Доржо – как мантру, как заклинание против распада. Он вспоминал прикосновение холодного байкальского ветра, запах сосновой хвои, тихий голос учителя. Эти якоря, эти осколки его прежней души, не давали ему окончательно раствориться, превратиться в безвольную куклу. Цена его «восстановления» была окончательной потерей себя.
Однажды ночью, когда действие очередной дозы начало ослабевать, и его сознание на короткое время прояснилось, Артём лежал, глядя в серый потолок. Боль притупилась, превратившись в постоянный, ноющий фон. Страх… он тоже стал другим. Он не исчез, но в нём появилась какая-то ледяная, почти нечеловеческая решимость. Он вспомнил обугленное зерно, висевшее когда-то у него на груди, камень с дырой. Их сейчас не было с ним, их, вероятно, забрали. Но память о них, о Доржо, о Лиде, о Максиме, которого он должен был спасти, пусть даже ценой всего… эта память стала его последним бастионом.
Когда на утреннем обходе медсестра готовила очередной шприц, Артём, собрав остатки воли, на долю секунды отвлёк её внимание слабым стоном. И пока она склонялась над ним, его пальцы, почти не слушавшиеся, сумели незаметно стянуть с лотка маленькую, невзрачную ампулу с «Синапсином-М» и спрятать её под матрасом. Это был крошечный, почти бессмысленный акт неповиновения. Искра сопротивления, вспыхнувшая в ледяной тьме его распадающейся души. Он не знал, что это за препарат, не знал, сможет ли он им когда-нибудь воспользоваться. Но он знал одно: он не сдастся без боя. Даже если этот бой будет его последним. Даже если ценой этого боя будет его собственное, окончательное безумие.
Он закрыл глаза, и перед его внутренним взором снова возник «Северный Мост» – не как видение, а как холодный, неоспоримый факт его новой, изломанной реальности. И он понял, что его «восстановление» – это лишь прелюдия к спуску в ещё более глубокий ад.
Глава 58: Тень «Северного Моста»
Дни в медицинском блоке тянулись, как вязкая, мутная смола. Артёма перевели из палаты интенсивной терапии, где каждый вздох казался украденным у смерти, в обычную, одноместную, но решётки на окнах и молчаливый охранник у двери недвусмысленно напоминали – это не больница, это тюрьма с более мягким режимом. «Восстановление» продолжалось, хотя дозы препаратов, вливаемых в него, казалось, несколько снизили. Это давало ему короткие, мучительные проблески ясности сознания, островки, на которые его выбрасывало из бушующего океана боли и лекарственного бреда. Он был физически разбит, каждый мускул ныл тупой, изматывающей болью, а ночи превратились в калейдоскоп кошмаров, где обрывки провалившейся «Омеги» смешивались с агрессивными, искажёнными видениями. Но сквозь эту пелену страданий всё настойчивее пробивалась одна мысль, одна одержимость, ставшая единственным якорем, удерживающим его от полного распада – «Северный Мост».
На прикроватной тумбочке, рядом со стаканом воды и безвкусными таблетками, однажды появился тонкий планшет. Оставленный «случайно» медсестрой или, что более вероятно, подброшенный по указанию Крутова или даже Елены, он содержал якобы «общую информацию» о текущих проектах корпорации. Артём, с трудом сфокусировав взгляд, нашёл там несколько абзацев, посвящённых «перспективному арктическому энергетическому комплексу ‘Северный Мост’» – скупой, казённый текст о «новой эре в энергетике» и «стратегическом значении для государства». Ложь, от которой сводило зубы.
Используя те редкие моменты, когда он оставался один, или когда охранник у двери погружался в дрёму, Артём лихорадочно вчитывался в эти строки. Это было похоже на попытку собрать головоломку из осколков тьмы. Большинство материалов были чистой пропагандой или сухими техническими сводками, тщательно отфильтрованными, лишёнными какой-либо конкретики. Но даже в них его искажённый, обострённый до предела дар, как ищейка, улавливал скрытые намёки, зияющие пустоты, несоответствия. Он пытался вспомнить каждую деталь из дневников Черниговского, каждое слово, обронённое Еленой, каждый свой кошмарный сон, связанный с теми ледяными пустынями. На одной из страниц он наткнулся на карту с примерным расположением «Северного Моста» – далёкий, безжизненный арктический регион, точка на глобусе, где, казалось, не могло быть ничего, кроме вечного льда и воя полярного ветра. Сама эта география, эта изолированность, вызывала у него иррациональную, глубинную тревогу.
Каждый раз, когда он пытался силой воли сосредоточиться на «Северном Мосте», его дар отзывался яростными, неконтролируемыми вспышками. Это были уже не те предчувствия или картины прошлого, что он знал раньше. Это были агрессивные вторжения, сопровождаемые физической болью – раскалённые иглы в висках, ледяной холод, сковывающий конечности, привкус крови и пепла во рту. Образы ледяных конструкций, которые он видел раньше, теперь обретали чудовищную детализацию. Он «видел» некие циклопические сооружения, уходящие вглубь многокилометровой толщи льда и одновременно пронзающие низкое, свинцовое небо, словно иглы гигантского, нечеловеческого механизма. Он ощущал давящую, первозданную пустоту, царящую вокруг «Моста», искажение самого времени, которое текло там иначе, замедляясь или закручиваясь в немыслимые петли. Он видел фрагменты каких-то процессов, происходящих там – не то ритуалов, не то сверхсложных технологических операций, но суть их ускользала, оставляя лишь ощущение чего-то чудовищного, античеловеческого, богохульного. В одном из таких видений, особенно мучительном, ему показалось, что «Северный Мост» – это не просто комплекс, а гигантская, тёмная «линза» или «зеркало», обращённое вовне, в бездонную черноту космоса, или, наоборот, в самые недра земли, к чему-то древнему, спящему, тому, что не должно быть потревожено.
Артём вспомнил о чёрном песке «Анатолии». Интуиция, обострённая страданиями и его изломанным даром, кричала ему о глубокой, фатальной связи между этим монацитовым композитом и «Северным Мостом». Он начал понимать, что «Мост» не сможет функционировать без «Анатолии», без её уникального «топлива», или без чего-то, что она производит, активирует. Его дар подсказывал, что чёрный песок – это не просто минерал, не просто источник энергии. Это своего рода «катализатор», «проводник» или даже «резонатор» для тех нечеловеческих энергий, с которыми, как он теперь подозревал, оперировал «Северный Мост». Именно через эту связь с песком, через его тёмный, глубинный «шёпот», который теперь не просто показывал обрывки прошлого или будущего, а словно транслировал волю чего-то древнего и чужеродного, Артём начал ощущать присутствие Голоса из Разлома не только как локальной аномалии «Анатолии», но как силы, стремящейся использовать «Северный Мост» для своего… вторжения. Просматривая в очередной раз файлы на планшете, он наткнулся на короткую, завуалированную сводку о «транспортировке особых радиоактивных материалов категории ‘Гамма-7’ с объекта ‘Анатолия’ на удалённые стратегические объекты в арктическом регионе». Сердце пропустило удар. Это было оно. Доказательство.
Складывая воедино обрывки казённой информации, собственные болезненные видения, воспоминания о шифрах Черниговского (где среди расчётов и схем он теперь отчётливо видел наброски некоего «пространственного якоря» или «стабилизатора перехода», необходимого для «Северного Моста») и тихие, мудрые, но теперь звучащие как приговор, слова Доржо о «перезаписи кармы», о «вскрытии древних пластов негативной энергии» и о том, что «некоторые врата лучше не открывать, ибо за ними не пустота, а то, что древнее самой пустоты», Артём, наконец, пришёл к прозрению. Оно обрушилось на него не как свет, а как ледяная лавина, погребая под собой последние остатки надежды. «Северный Мост» – это не просто новый источник энергии, не «стабилизатор планетарного поля», как писал Черниговский в своих ранних, ещё полных энтузиазма, работах. Это было нечто неизмеримо большее. И неизмеримо более страшное. Машина, способная не просто влиять на время или пространство. Машина, предназначенная для фундаментального изменения самой структуры реальности, для «переписывания» её законов. Или… для открытия Врат. Врат, через которые в этот мир могло хлынуть то, что он слышал у трещины, тот самый Голос из Разлома, или нечто ещё более древнее, более чуждое, чему не было имени в человеческих языках. И он, Артём Гринев, со своим искажённым, насильственно «откалиброванным» даром, должен был стать «ключом». «Детонатором». Той самой жертвой, которую принесут на алтарь этого чудовищного проекта.