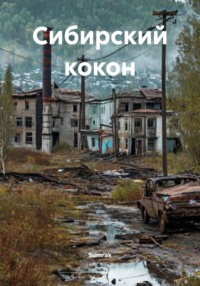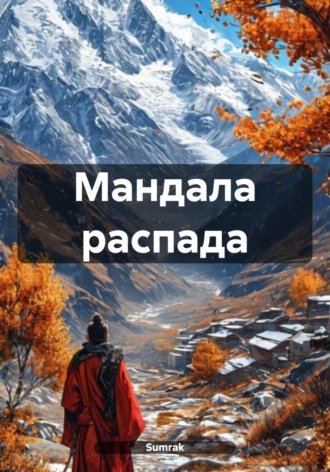
Полная версия
Мандала распада
Наконец, Крутов поднял голову.
– Гринев, – его голос был ровным, безэмоциональным, но в этой ровности таилась угроза. – До меня дошли сведения о… некоторых ваших, скажем так, несанкционированных действиях. И о вашем, мягко говоря, нестабильном психоэмоциональном состоянии. Всё это, разумеется, не способствует успешной реализации поставленных перед нами задач.
Елена медленно обернулась. На её лице не дрогнул ни один мускул.
– Господин Гринев действительно демонстрирует повышенную сенсорную восприимчивость, – её голос прозвучал так, словно она зачитывала научный доклад. – Иногда это приводит к неконтролируемым реакциям. Но его потенциал… он всё ещё значителен.
«Потенциал… реакции…» Они говорили о нём, как о подопытном животном.
– Потенциал – это хорошо, Елена Викторовна, – прервал её Крутов, не повышая голоса, но каждое его слово било, как молот. – Но нам нужны результаты. Конкретные, измеримые результаты. А вместо этого мы имеем… – он сделал паузу, – …нежелательные флуктуации в работе ключевых систем реактора. И недостаточную готовность к следующему, критически важному этапу «Протокола Омега». Государство вложило в этот проект колоссальные ресурсы, Гринев. И я не намерен мириться с дальнейшими задержками или сбоями, вызванными вашей… недисциплинированностью.
Артём попытался возразить:
– Я… я делаю всё, что могу… Но это место… оно…
– Оно требует от вас полной отдачи! – отрезал Крутов. – А не рефлексии и самокопания.
Видя, что его слова не производят должного эффекта, что Артём всё ещё пытается сопротивляться, Крутов сменил тактику. Он откинулся в кресле, и на его лице на мгновение появилось выражение, которое можно было бы принять за сожаление, если бы не холодный блеск в глазах.
– К сожалению, Гринев, у меня для вас плохие новости. Очень плохие. Касающиеся вашего сына.
Сердце Артёма ухнуло вниз. Он знал. Он чувствовал.
– Только что я получил отчёт из стамбульской клиники, – продолжал Крутов, его голос обрёл почти сочувственные нотки, отчего звучал ещё более фальшиво и жестоко. – Состояние Максима… оно резко ухудшилось за последние сутки. Врачи говорят о внезапном, агрессивном регрессе. Его организм… он перестал реагировать на проводимую терапию. Похоже, тот временной ресурс, который мы пытались для него выиграть… он исчерпывается. Времени у нас остаётся всё меньше, Гринев. Катастрофически мало.
Боль, острая, как удар ножа, пронзила Артёма. Максим… его мальчик… Он вскочил, опрокинув стул.
– Что вы сделали?! Это из-за вас! Из-за ваших проклятых экспериментов!
Двое «кураторов», до этого незаметно стоявшие у стены, мгновенно оказались рядом, их руки легли ему на плечи, возвращая на место.
– Эмоции, Гринев? – Крутов даже не шелохнулся. – Неконструктивно. И несправедливо. Мы делаем всё возможное. Но, как видите…
Он снова подался вперёд, его голос обрёл прежнюю стальную твёрдость.
– У вас есть шанс, Гринев. Возможно, последний. Для вашего сына. Вы должны немедленно взять себя в руки. Сосредоточиться. Использовать свой дар не для… праздных изысканий в стенах реактора, – он выразительно посмотрел на Елену, давая понять, что ему всё известно, – а для дела. Для стабилизации системы. Для успешного запуска «Омеги». Только это может дать Максиму надежду.
Он сделал паузу, давая словам впитаться в сознание Артёма, как яд.
– Ваш сын, Гринев, – продолжил он, чеканя каждое слово, – сейчас заложник не только своей болезни, но и вашей нерешительности. Вашей способности или неспособности выполнить то, что от вас требуется. Либо вы работаете. Без остатка. Без сбоев. И тогда, возможно, у него появится шанс. Либо… – он развёл руками, – …боюсь, медицина здесь действительно окажется бессильна. И вся полнота ответственности за это, Гринев, будет лежать на вас. Подумайте об этом. Хотя, боюсь, времени на раздумья у вас уже нет.
Это был ультиматум. Голый, безжалостный, не оставляющий ни малейшей лазейки. Артём почувствовал, как внутри всё обрывается. Его загнали в угол. Его знания, его дар, его страхи – всё это теперь было обращено против него через самое дорогое, что у него оставалось.
Он опустил голову. Сил на борьбу, на слова, на протест больше не было. Только тупая, всепоглощающая боль и осознание своего полного бессилия. Он медленно, почти незаметно кивнул.
На лице Крутова не отразилось ничего, кроме лёгкой, почти незаметной тени удовлетворения. Он добился своего.
– Вот и хорошо, Гринев, – сказал он почти буднично. – Я рад, что мы пришли к взаимопониманию. Мои люди проводят вас. Вам нужно отдохнуть. И подготовиться. Завтрашний день будет… решающим. Для всех нас.
Он вышел из кабинета, как марионетка, дёргаемая за невидимые нити. Мир вокруг казался нереальным, расплывчатым, как дурной сон. Новые цепи, ещё более тяжёлые, ещё более невыносимые, легли на его плечи. Предстоящая работа… теперь казалась ему не просто опасной. Это был путь на Голгофу.
В ушах звенела пустота, но сквозь неё, как далёкий, печальный колокол, пробились слова Доржо, сказанные им однажды, когда Артём, ещё юношей, столкнулся с предательством и не знал, как жить дальше: «Истинная сила, Артём, не в том, чтобы избежать падения, не в том, чтобы никогда не испытывать боль или страх. А в том, чтобы каждый раз, когда тебя сбивают с ног, находить в себе мужество подняться. Даже если кажется, что подниматься уже некуда и незачем. Ищи опору не вовне – мир изменчив и полон иллюзий. Ищи её внутри. В своём дыхании. В своём сердце. В том сострадании ко всем живым существам, которые, как и ты, бредут во тьме Сансары, ища света».
Сострадание… Какое, к чёрту, сострадание, когда твоего сына медленно убивают, а тебя самого превращают в оружие массового уничтожения, в слепой инструмент в руках бездушных кукловодов? Мудрость учителя казалась сейчас такой далёкой, такой бесполезной, почти насмешкой…
Он вспомнил другую притчу Доржо – о монахе, который много лет пытался достичь просветления через суровую аскезу и медитации, но ничего не получалось. И однажды, в полном отчаянии, он увидел маленького щенка, тонущего в ледяной реке. И монах, забыв о своих медитациях, о своём «пути», бросился в воду и спас щенка, рискуя собственной жизнью. И в тот момент, когда он, промокший и замёрзший, прижимал к себе спасённое существо, он вдруг ощутил тот покой и ту ясность, которых не мог достичь годами.
«Иногда, Артём, – говорил Доржо, – путь к свету лежит не через отречение от мира, а через самое сердце его страдания. Через действие, продиктованное не эгоизмом, а любовью. Даже если это действие кажется безнадёжным».
Безнадёжное действие… Возможно, это всё, что ему оставалось. Он не мог спасти всех. Он не был уверен, что сможет спасти даже Максима. Но он мог попытаться. Попытаться не стать слепым орудием разрушения. Попытаться внести хоть какой-то диссонанс в эту дьявольскую симфонию, которую дирижировал Крутов.
Слова Доржо, как заноза, засели в его памяти, не давая окончательно раствориться в отчаянии, в этой липкой, удушающей тьме. Возможно, даже в самом глубоком аду есть место для… чего-то, кроме боли и страха. Он не знал, для чего. Но он должен был идти дальше. Ради Максима. Ради Лиды. Ради того, чтобы хотя бы попытаться понять, есть ли выход из этой кровавой мандалы, или он сам должен стать её последним, разрушающим элементом.
Глава 52: Обугленное Зерно Резонирует
Ночь снова сжимала «Анатолию» в своих ледяных объятиях, но для Артёма она не приносила ни сна, ни забвения. После ультиматума Крутова, после его безжалостных слов о Максиме, сон казался предательством, слабостью, которую он не мог себе позволить. Он лежал на жёсткой койке, глядя в серый потолок своей камеры, и чувствовал, как отчаяние, холодное и вязкое, как ил на дне Байкала, медленно поглощает его.
В попытке найти хоть какую-то точку опоры, хоть что-то реальное в этом безумном, распадающемся мире, он нашарил под подушкой свой старый, потёртый мешочек из грубой ткани. Подарок Доржо. Единственная ниточка, связывающая его с тем прошлым, где небо было синим, а будущее – непредсказуемым, но не таким безнадёжно-чёрным.
Дрожащими пальцами он развязал завязки. Камень с дырой, гладкий, холодный, привычно лёг в ладонь. А рядом с ним – маленькое, обугленное зёрнышко риса. То самое, что отскочило от ритуального костра много лет назад, на берегу Онона. Он почти забыл о нём, затерявшемся среди других, более значимых, как ему казалось, символов его трагедии. Но сегодня, в этой беспросветной тьме, его пальцы сами потянулись к нему. Оно показалось ему необычно тёплым, почти живым, или, может, это просто его собственная кожа горела от внутреннего жара.
Он лежал, машинально перекатывая зерно между пальцами, когда его снова накрыло. Видение. Яркое, навязчивое, как всегда в последнее время. Трещина-спираль на стене реактора, пульсирующая ледяным, потусторонним светом. И Лида, его маленькая сестрёнка, её алый шарф – единственное живое пятно в этом сером, гудящем аду – её тонкий пальчик, снова и снова указывающий на эту рану в бетоне.
В тот самый момент, когда образ спирали достиг пика своей мучительной отчётливости, он случайно сжал в кулаке обугленное зерно. И почувствовал это. Едва уловимое, но отчётливое покалывание в ладони, слабое, пульсирующее тепло, исходящее от зерна. Одновременно видение Лиды на мгновение стало ещё ярче, ещё пронзительнее, словно кто-то выкрутил ручку контрастности на старом телевизоре. А затем так же резко всё пропало, оставив его тяжело дышащим, с бешено колотящимся сердцем.
Он раскрыл ладонь, посмотрел на чёрное зёрнышко. Оно казалось обычным. Неужели совпадение? Игра его измученного воображения? Он столько раз видел Лиду, столько раз ощущал этот холод спирали…
Но что-то не давало ему покоя. Какая-то интуитивная догадка, искра надежды, отчаянно цепляющаяся за жизнь в его выжженной душе. Он решил проверить.
Сев на койке, он снова взял зерно в правую руку. Левой он коснулся шрама-спирали на запястье, словно пытаясь настроиться на нужную волну. Он закрыл глаза и попытался сознательно вызвать в памяти образ трещины, тот самый, что так безжалостно преследовал его. Это было нелегко. Его мысли метались, дар сопротивлялся, подбрасывая обрывки других, не менее страшных видений. Но он упорно возвращался к спирали, к её ледяному свечению, к ощущению застывшего времени.
И когда ему, наконец, удалось сфокусироваться, когда образ спирали стал почти осязаемым перед его внутренним взором, зерно в его руке отреагировало. Сначала – лёгкая вибрация, словно внутри него проснулось крошечное, пойманное насекомое. Затем – волна тепла, ощутимая, почти горячая. И его дар… на мгновение он словно очистился от помех, усилился, и образ спирали стал невероятно чётким, детализированным, словно он снова стоял перед ней, в гулком полумраке реакторного зала.
Он открыл глаза, тяжело дыша. Ладонь горела. Зерно было горячим. Удивление, страх и какой-то почти детский, иррациональный восторг боролись в нём. Что это? Что, чёрт возьми, это значит? Этот маленький, обугленный кусочек риса… он что-то делал. Он как-то взаимодействовал с его даром. Или с самой природой этой проклятой спирали.
Память услужливо подбросила другое воспоминание: вспышка, ожог на ладони, когда это же зерно оказалось рядом с крупинкой чёрного песка, добытого Штайнером. Тогда это показалось ему зловещим предзнаменованием, ещё одним доказательством его связи с этим адским местом. Но теперь…
Он лихорадочно пошарил по карманам. Да, там всё ещё оставалось несколько почти невидимых частиц того самого монацитового композита, которые он так и не решился выбросить. Дрожащей рукой он высыпал одну из них на серую поверхность тумбочки. Затем, затаив дыхание, осторожно поднёс к ней ладонь с зажатым в ней обугленным зерном.
Вспышки не было. Но когда зерно оказалось в непосредственной близости от чёрной пылинки, Артём почувствовал это снова. Зерно нагрелось, завибрировало. И на этот раз он увидел – или ему показалось, что увидел – как оно на мгновение тускло, очень слабо засветилось изнутри, словно далёкий, умирающий уголёк. А чёрная пылинка… она тоже как будто откликнулась, едва заметно сместившись, словно её притягивало или отталкивало от зерна.
Он не знал, что это – симпатия или антагонизм. Но это было взаимодействие. Две силы. Одна – древняя, мёртвая, несущая в себе прах веков и проклятие «Анатолии». Другая – маленькая, обугленная, но словно хранящая в себе искру какого-то иного огня, иного знания. Ожог на его ладони, тот самый, от первого контакта, снова запульсировал, но теперь эта боль несла в себе не только страх, но и… любопытство.
Следующий приступ «шёпота песка» не заставил себя долго ждать. Хаотичные, рваные образы прошлого и будущего, смешанные с ледяным, безличным присутствием Голоса из Разлома, снова начали терзать его сознание. Он уже привык к этим атакам, научился как-то пережидать их, отключаться, уходить в себя. Но на этот раз, инстинктивно, почти не осознавая, что делает, он крепче сжал в руке обугленное зерно.
И произошло нечто странное. Хаос не исчез. Голос не замолчал. Но они… они словно немного отступили, потеряли часть своей всепоглощающей силы. Словно зерно создавало вокруг него невидимый, хрупкий, но всё же ощутимый барьер. Или оно помогало ему сфокусироваться, не раствориться в этом безумии, удержать свой распадающийся разум в каких-то границах. Он чувствовал, как энергия, исходящая от зерна, тёплая и вибрирующая, противостоит ледяному дыханию песка и разлома.
Он начал видеть в этом маленьком, чёрном комочке не просто сувенир. А потенциальный инструмент. Но инструмент чего – спасения или ещё большего, ещё более изощрённого погружения в безумие? Ответ на этот вопрос он не знал.
Странная реакция зерна, его необъяснимая связь с его даром, с чёрным песком, со спиралью, пробудила в Артёме ещё одно, почти забытое воспоминание. Доржо. Большой ритуальный костёр на берегу Онона. Лица монахов, освещённые пляшущим пламенем. И голос ламы, спокойный и глубокий, как воды Байкала:
«Каждое деяние, сын мой, оставляет след, как это зерно в огне. Спасти всех – значит сжечь себя дотла, оставив лишь пепел для новой жизни… или для вечного забвения. Это зерно, что прошло через огонь, оно уже не просто зерно. Оно – символ. Символ жертвы. Символ трансформации. Символ кармы, которую нельзя избежать, но можно… осознать».
Тогда эти слова казались ему лишь частью красивого, древнего ритуала. Но сейчас… Обугленное зерно в его руке. Оно прошло через огонь. Оно было символом. Но чего? Его собственной, уже почти сгоревшей жизни? Его готовности к жертве ради Максима? Или Доржо, давая ему это зерно (а Артём был почти уверен, что лама видел, как он его подобрал, и не остановил его), предвидел нечто большее?
Он вспомнил, как Доржо учил его концентрироваться на одном объекте во время медитации, чтобы успокоить ум. Маленький камешек, цветок, пламя свечи… Может быть, это зерно… оно и было таким объектом?
Но как применить эту мудрость здесь, в этом аду? Доржо говорил о принятии страдания, о его иллюзорной природе. «Боль – это просто ощущение, Артём, – звучал в памяти его спокойный голос. – Наблюдай её, не отождествляйся с ней. Она пройдёт, как облако на небе твоего сознания».
Но как наблюдать со стороны боль твоего ребёнка, когда тебе предлагают призрачный шанс на его спасение ценой твоего собственного распада? Как принять иллюзорность этого мира, когда его когти так реально впиваются в твою плоть и душу?
Он вспомнил другую притчу, которую Доржо рассказал ему однажды, когда Артём, будучи ещё подростком, столкнулся с несправедливостью и хотел отомстить. Притчу о человеке, укушенном ядовитой змеёй, который, вместо того чтобы немедленно искать противоядие, начал выяснять, кто была эта змея, какого она была вида, почему она его укусила… и умер прежде, чем получил ответы.
«Иногда, Артём, – сказал тогда Доржо, – важнее не понять причину страдания, а найти способ его прекратить. Не для себя. Для других. Даже если этот способ требует от тебя пройти через огонь».
Обугленное зерно в его руке. Оно прошло через огонь. И оно было не только символом жертвы. Возможно, оно было и символом… пути. Страшного, опаляющего, но единственно возможного в этом мире, где добро и зло, спасение и проклятие, были так чудовищно переплетены.
Артём осторожно положил камень с дырой и обугленное зерно обратно в мешочек. Он не получил ответов. Его страх, его отчаяние никуда не делись. Но теперь к ним примешивалось что-то ещё. Крошечный, почти безумный проблеск… не то чтобы надежды, но, по крайней мере, ощущения, что он не совсем безоружен. Что у него есть что-то, чего нет у Крутова, у Елены, у этого проклятого Голоса. Что-то, что связывает его не только с ужасом этого места, но и с мудростью его учителя, с его собственным, пусть и искалеченным, прошлым.
Он понимал, что это может быть очередная иллюзия, ещё одна ступенька в его безумие. Ложная опора, которая рухнет в самый неподходящий момент. Но за эту соломинку он был готов уцепиться.
Он достал из рюкзака обрывок простого кожаного шнурка, который когда-то держал его старый, потерянный амулет. Проделав в мешочке Доржо небольшое отверстие, он продел в него шнурок и повесил на шею, спрятав под рубашкой. Два маленьких, неприметных предмета. Камень с дырой, сквозь которую он когда-то смотрел на мир, ещё не зная, какие ужасы его ждут. И обугленное зерно, символ жертвы и, возможно, ключ к чему-то, что он пока не мог даже вообразить.
Его тайные союзники. Или его последние проклятия.
Он лёг, и впервые за много ночей почувствовал не только всепоглощающую усталость, но и странное, почти забытое ощущение… готовности. Готовности к тому, что принесёт ему завтрашний день. Каким бы страшным он ни был.
Глава 53: Тень «Северного Моста»
После ледяного ультиматума Крутова и странного, обнадёживающе-пугающего резонанса обугленного зерна, Артём почти перестал спать. Время, казалось, сжалось, превратившись в тугую, звенящую струну, готовую вот-вот лопнуть. Он лихорадочно перебирал в уме все известные ему факты, обрывки фраз, намёки, пытаясь сложить из них хоть какую-то осмысленную картину. «Северный Мост». Это название, произнесённое Еленой почти шёпотом, как нечто сакральное и запретное, не давало ему покоя. Он и раньше, в обрывочных, кошмарных снах или в моменты особого напряжения, видел неясные образы ледяных пустынь, гигантских тёмных конструкций, уходящих в свинцовое небо, но не мог понять, что это, чувствуя лишь их зловещую, глубинную связь с «Анатолией». Теперь он чувствовал, инстинктивно, всем своим измученным существом, что это не просто удалённый объект для «Протокола Омега», не просто ещё одна АЭС или научный комплекс. Это было нечто иное. Сердцевина. Эпицентр той бури, в которую его затянуло.
Он снова и снова рассматривал те немногие схемы «Анатолии», что ему удалось запомнить или зарисовать по памяти. Искал связи, аномалии, что-то, что могло бы указать на истинное предназначение этой дьявольской машины. Но схемы были чисты, сухи, бездушны. Ответ лежал не в них. Он лежал глубже.
Память вернула его в старый, пыльный кабинет профессора Черниговского, к той толстой тетради в кожаном переплёте – его личному дневнику. Тогда он лишь мельком увидел страницы, исписанные сложным шифром, и карандашные пометки Елены на полях. Но сейчас, в его воспалённом мозгу, эти символы, эти обрывки формул всплывали с пугающей отчётливостью.
Он не был криптографом. Но он был инженером, привыкшим к логике систем, к поиску закономерностей. И его дар, его проклятая способность видеть скрытые связи, теперь, подстёгнутый отчаянием и резонансом обугленного зерна, которое он не вынимал из сжатой ладони, работал на пределе. Он закрыл глаза, пытаясь воссоздать в памяти те страницы. Но сейчас, когда он сжимал в ладони обугленное зерно, оно не просто успокаивало. Оно действовало как катализатор, вызывая состояние изменённого сознания, где его дар на короткое, мучительное время становился невероятно сфокусированным, позволяя «прочитать» скрытую информацию, «увидеть» те связи, что были недоступны в обычном, затуманенном болью и страхом состоянии. Но это было не просто мистическое озарение. Его инженерный ум, привыкший к системному анализу, лихорадочно работал, сопоставляя обрывки шифра Черниговского с тем, что он видел в своих видениях, с теми намёками, что проскальзывали в словах Елены и даже Крутова. Он вспоминал схемы «Анатолии», её энергетические потоки, которые он теперь «чувствовал» почти физически. Он пытался найти логику в безумии, систему в хаосе. Он чертил в уме невидимые диаграммы, связывая воедино геологические особенности арктического региона, где должен был находиться «Мост», с уникальными свойствами монацитового песка и теми странными, «нестандартными» конструктивными решениями, которые он угадывал в чертежах Черниговского. Только когда все эти разрозненные куски информации, пропущенные через фильтр его аналитического мышления, начали складываться в пугающе непротиворечивую, хоть и чудовищную картину, его дар, словно прорвав последнюю плотину, обрушил на него всю полноту истины. Это не было лёгким озарением; каждая новая связь, каждое понятое слово из шифра Черниговского отзывалось в нём колоссальным напряжением, физической болью, ощущением, что его мозг вот-вот не выдержит, взорвётся от перегрузки. Символы плясали перед его внутренним взором, складываясь и рассыпаясь, но постепенно, мучительно медленно, из этого хаоса начали проступать… слова. Фразы.
Это не была полная расшифровка. Скорее, интуитивное прозрение, основанное на тех немногих пометках Елены, которые он запомнил, и на его собственном, обострённом до предела восприятии. Но то, что он «увидел», заставило его кровь застыть в жилах.
Профессор Черниговский писал не просто о новом источнике энергии. Он писал о «гармонизации нулевых колебаний вакуума», о «создании управляемого темпорального градиента», о «проекте ‘Северный Мост’ как о стабилизаторе планетарного энергоинформационного поля». Но за этими высокопарными, наукообразными терминами сквозило другое – его растущий страх. Он упоминал о «непредсказуемых побочных эффектах», о «риске необратимого искажения пространственно-временного континуума», о «давлении со стороны ‘кураторов’ проекта», требовавших «ускорения» и «упрощения» протоколов безопасности. И самое страшное – он писал о «Северном Мосте» и «Анатолии» не как о двух отдельных объектах, а как о единой, взаимосвязанной системе. «Анатолия» с её уникальным монацитовым композитом должна была стать «камертоном», «первичным резонатором», а «Северный Мост» – гигантским «усилителем» и «излучателем», способным… на что? Черниговский не писал этого прямо, но между строк читался ужас перед тем, какую силу они пытались высвободить.
Когда Артём, наконец, открыл глаза, его била дрожь. Расшифрованные обрывки обрушились на него лавиной, но этого было мало. Его дар, его связь с чёрным песком, усиленная теперь резонансом обугленного зерна, требовали большего. Он чувствовал, как его сознание, словно проламывая тонкую корку льда над бездонной пропастью, мучительно пытается прорваться к чему-то большему, к целостной картине. Боль в висках стала невыносимой, мир перед глазами начал расплываться. В ушах нарастал гул, смешивающийся с тихим, зовущим шёпотом Голоса из Разлома, который словно пытался помешать, увести в сторону, окутать спасительным безумием. Артём стиснул зубы, вцепившись в обугленное зерно так, что оно, казалось, вот-вот раскрошится. Он должен был прорваться, должен был увидеть, даже если это видение окончательно его уничтожит. Он отчаянно цеплялся за эту нить, за это предчувствие, понимая, что если сейчас отступит, то уже никогда не увидит правду, а Максим… Максим будет обречён.
И видение пришло. Прорвалось сквозь барьер его истощённого сознания, как удар молнии, как выстрел в упор, сметая остатки его сопротивления. Не такое хаотичное, как раньше. А пугающе ясное, детализированное, словно кто-то транслировал ему фильм Судного дня прямо в мозг.
Он больше не был в своей камере. Он парил над бескрайней, ледяной пустыней где-то на Крайнем Севере. Под ним, скрытый под многометровой толщей льда и вечной мерзлоты, или, возможно, построенный в гигантской искусственной пещере, раскинулся комплекс, от которого исходило ощущение нечеловеческой, древней мощи. «Северный Мост». Это были не просто реакторы и турбины. Это были гигантские, тёмные структуры, похожие на иглы или антенны, уходящие вглубь земли и ввысь, в свинцовое, полярное небо. От них исходило видимое даже его обычному зрению тёмное, маслянистое марево, искажающее свет, заставляющее саму реальность дрожать и расплываться. Он видел, как от «Моста» исходят едва заметные энергетические поля, питающиеся от какого-то скрытого, возможно, геотермального или термоядерного источника колоссальной мощности, расположенного глубоко под арктическими льдами, что и обеспечивало его автономное функционирование вдали от цивилизации.