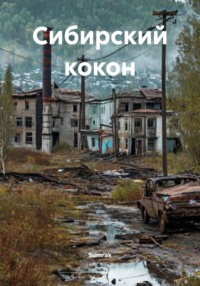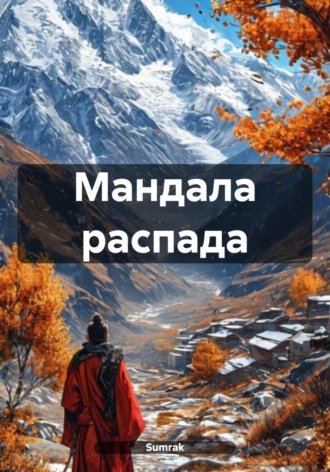
Полная версия
Мандала распада
Преддверие распада
Глава 47: Последние Часы Перед Затмением
Сквозь мутную пелену забытья, густую и вязкую, как смола, первым пробился звук – мерное, бездушное пиканье медицинского монитора у изголовья. Артём с трудом разлепил веки. Стерильная белизна палаты резанула по глазам, вызвав тупую боль в висках. Тело ломило, каждый мускул ныл отголосками пережитого кошмара, но физическая боль, постоянно приглушаемая препаратами, которые вливали в него почти непрерывно, была лишь тенью того ужаса, что всё ещё клубился в глубинах его истерзанного сознания. Он чувствовал себя выжатой губкой, из которой высосали почти всё, оставив лишь оболочку, едва способную держаться на ногах без очередной дозы стимуляторов. Провал «Протокола Омега» … Он помнил оглушающий, нечеловеческий гул, разрывающую его на части боль, слепящий хаос цветов и форм, в который превратился мир перед тем, как тьма милосердно поглотила его.
И теперь ему предстояло пройти через это снова.
Он лежал, глядя в белый потолок, и пустота внутри него была бездоннее той, что ждала его в сердце "Омеги". Казалось, умерло всё – надежда, страх, даже любовь к сыну превратилась в тупую, ноющую рану, которую постоянно растравливали. Но в этой выжженной пустыне, где остались лишь пепел и руины его души, вдруг вспыхнула крошечная, холодная искра. Не ярость. Не отчаяние. А нечто иное – спокойное, ледяное осознание того, что если ему суждено сгореть, то он, по крайней
мере, выберет, как именно будет гореть его погребальный костёр. Что-то в нём сломалось окончательно, освобождая место для чего-то нового, пугающе твёрдого. Это было не принятие жертвы, а решение стать свидетелем – возможно, последним – и, если представится хоть малейший, призрачный шанс, то и орудием возмездия. Или хотя бы помехой.
Если ему суждено снова войти в эту бездну, он сделает это не как слепая жертва, а как… свидетель. Или даже как тот, кто попытается что-то изменить изнутри, даже ценой полного самоуничтожения.
Он закрыл глаза, пытаясь унять дрожь. Вспомнились слова Доржо, его спокойный, глубокий голос: «Мир подобен сновидению, Артём. И страдания в нём – тоже часть этого сна. Не борись со сном. Пойми, что ты спишь. И тогда, возможно, ты сможешь выбрать, какой сон тебе видеть. Или… проснуться».
Проснуться… Как же он хотел проснуться от этого бесконечного кошмара! Но сейчас слова учителя не приносили утешения, не указывали путь. Они лишь подчёркивали глубину его падения, его оторванность от той простой, ясной мудрости, которую он когда-то впитывал у берегов Байкала. Его внутренний компас, настроенный Доржо, отчаянно вращался, его стрелка металась между ледяным ужасом и тупой апатией, не в силах указать верное направление. Но сама попытка вспомнить, сама попытка нащупать эту утраченную опору, придала ему новую, холодную решимость. Если он не может проснуться, то он, по крайней мере, постарается не дать этому сну поглотить всё, что ему дорого. Он не знал, как. Но он должен был попытаться. Даже если это будет его последний, бессмысленный бунт.
Холодный пот выступил на лбу. Он поднял руку, рассматривая ладонь. Ожог от обугленного зерна Доржо, полученный при контакте с чёрным песком, всё ещё багровел, напоминая о цене его дара, о цене его ошибок. Теперь он был не просто отметиной, а словно клеймом раба, загнанного зверя, которому некуда бежать. Но даже зверь, загнанный в угол, способен на последний, отчаянный прыжок.
Он закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться, вспомнить учения ламы. «Наблюдай мысль, не отождествляйся с ней… Боль – лишь облако на небе твоего сознания…» Но небо его сознания было затянуто непроглядными грозовыми тучами. Вместо покоя и ясности, на него обрушивался шквал хаотичных, агрессивных видений. Лида, её лицо искажено не детской печалью, а взрослым, невыносимым ужасом. Максим, хрупкий, как стекло, рассыпающийся на мириады светящихся частиц в его руках. «Анатолия», коллапсирующая в ненасытную чёрную дыру, затягивающую в себя всё сущее.
И Голос. Голос из Разлома, который он впервые услышал у трещины-спирали, теперь звучал громче, настойчивее, вкрадчивее. Он больше не шептал издалека – он говорил прямо в его мозгу, предлагая «помощь», «понимание», «силу» в обмен на… на что? Артём инстинктивно отталкивал его, но с каждым разом это требовало всё больших усилий.
Он нащупал под подушкой камень с дырой, подарок Доржо из почти забытого прошлого. Холодный, гладкий, он всегда был для него якорем, связью с чем-то реальным. Но сейчас даже камень, казалось, вибрировал в унисон с гулом «Анатолии», отзываясь отголосками той бездны, в которую ему предстояло снова заглянуть.
Дверь палаты бесшумно открылась, и вошла Елена. Безупречный белый халат, собранные волосы, лицо – холодная маска профессионала. Но Артём, чей искажённый дар теперь вскрывал чужие эмоции, как скальпель, увидел за этой маской затаённое напряжение, лихорадочный блеск научного азарта и что-то ещё, мимолётное, почти неуловимое – тень страха или запоздалого сочувствия, тут же безжалостно подавленную.
– Как ты себя чувствуешь, Артём? – её голос был ровным, почти безразличным.
– Словно меня разобрали на части и забыли, как собрать обратно, – хрипло ответил он.
– Подготовка к новому запуску «Омеги» почти завершена, – продолжила она, игнорируя его слова. – Мы учли… предыдущие осложнения. Штайнер внёс коррективы в протокол. На этот раз всё будет под контролем. Вот, – она положила на прикроватную тумбочку тонкий планшет. – Здесь обновлённые данные по проекту. И свежая информация о состоянии Максима. Ему… немного лучше.
Артём посмотрел на планшет, потом на Елену. «Немного лучше». Слишком гладко, слишком фальшиво. Его дар кричал о манипуляции, о её скрытых, всё ещё не до конца понятных ему целях. Он видел её «энергетическую тень» – сложную, многослойную, сотканную из амбиций, боли за отца и чего-то ещё, более тёмного и опасного.
– Ты веришь в это, Елена? – тихо спросил он. – Веришь, что этот ад поможет моему сыну? Или это просто цена за твой… научный триумф?
Её лицо на мгновение дрогнуло, но тут же снова стало непроницаемым.
– Я верю в науку, Артём. И в то, что мы стоим на пороге величайшего открытия. А Максим… он получит свой шанс. Если ты сделаешь всё правильно.
Она вышла так же бесшумно, как и вошла, оставив Артёма наедине с планшетом, который казался ему теперь не источником информации, а ящиком Пандоры.
Через час, когда действие утренних седативов начало ослабевать, в палату вошёл Крутов. Без стука, без предисловий. Его холодные голубые глаза впились в Артёма, не выражая ничего, кроме деловой заинтересованности.
– Гринев, – его голос был сух, как пустынный ветер. – Надеюсь, вы восстанавливаетесь. Времени мало. Елена Викторовна заверила меня, что вы будете готовы. Следующая попытка завтра утром.
Артём молчал, чувствуя, как ледяные тиски сдавливают грудь.
– Я должен напомнить вам, – продолжил Крутов, – что состояние вашего сына остаётся… нестабильным. Любое ваше нежелание сотрудничать, любая ваша… слабость, может иметь для него необратимые последствия. Я ясно выражаюсь?
Слова Крутова были как удары молота по наковальне. Никакой лжи, никакой фальши, как у Елены. Только голый, безжалостный шантаж. Артём ощутил приступ бессильной ярости, но тут же подавил его. Он был загнан в угол.
– Я всё понял, – глухо ответил он.
Крутов коротко кивнул.
– Вот и хорошо. Я ценю ваше… понимание.
Он вышел, оставив за собой ощущение ледяной пустоты.
Когда он остался один, Артём, превозмогая тошноту и слабость, дотянулся до планшета. Дрожащими пальцами он открыл файл с историей болезни Максима. «Пациент Гринев М.А., возраст 7 лет. Диагноз: Острая прогрессирующая энцефалопатия неясной этиологии с элементами атрофии корковых структур. Состояние: Кома II степени, стабильно тяжёлое. ЭЭГ: Диффузная дезорганизация биоэлектрической активности с преобладанием медленноволновых паттернов, редкие эпилептиформные разряды. МРТ: признаки отёка головного мозга, очаговые изменения в белом веществе, подозрение на нарушение гематоэнцефалического барьера…»
Артём не был врачом, но даже ему, инженеру, эти сухие, бездушные термины рисовали страшную картину. Он вцепился в слова «прогрессирующая», «атрофия», «отёк». Это не было «незначительной положительной динамикой», о которой говорила Елена. Это был медленный, неотвратимый распад. Его мальчика. Его смеющегося, любознательного Максима. А рядом, в том же файле, шли графики каких-то жизненных показателей, ровные, монотонные линии, прерываемые редкими всплесками – словно само время остановилось для его сына, или текло по каким-то своим, извращённым законам. Сердце Артёма сжалось от невыносимой боли и бессилия. Пепел его последних надежд, которые так жестоко пыталась раздуть Елена, развеялся без следа, оставив лишь горький привкус отчаяния.
Затем он открыл файлы по «Протоколу Омега». Формулы, схемы, графики… Он мало что понимал в этой абракадабре, но его дар, его проклятая способность видеть суть вещей, рисовал ему иную картину. Это была не просто техническая система. Это была чудовищная, живая мандала, сотканная из энергии, времени и человеческих страданий. «Анатолия» и «Северный Мост» – два её полюса, два хищных глаза, смотрящих в бездну. А он, Артём, был её пульсирующим, кровавым сердцем, принесённым в жертву. Он неосознанно провёл пальцем по холодному экрану, выводя спираль – символ его шрама, символ реактора, символ этой дьявольской машины.
Острое, почти невыносимое желание услышать голос Максима, сказать что-то Ольге, хотя бы просто попрощаться, охватило его. Он знал, что это бесполезно. Даже если ему дадут связь, разговор будет контролироваться, каждое слово будет взвешено и препарировано. Он будет говорить не с ними, а с тенями, с призраками, созданными его отчаянием.
Он достал из-под подушки обугленное зёрнышко риса – то самое, что Доржо когда-то бросил в костёр кармы. Он всегда носил его с собой, как напоминание. Он сжал его в кулаке, пытаясь передать сыну свою любовь, свою боль, своё бессилие. Тишина в ответ была оглушающей. Он был один. Абсолютно один.
И в этой абсолютной изоляции, в этой предсмертной тишине, что-то в нём сломалось. Или, наоборот, выковалось заново. Бежать было некуда. Сопротивляться открыто – бессмысленно. Но он не будет больше слепой, дрожащей жертвой. Если ему суждено снова шагнуть в эту бездну, он сделает это с открытыми глазами.
Он сел на пол своей стерильной камеры, скрестив ноги в попытке имитировать позу лотоса, как когда-то учил его Доржо. Попытался сосредоточиться на дыхании. Вдох… холодный, казённый воздух «Анатолии» … выдох… вместе с ним уходит частичка его и так едва теплящейся жизни… «Наблюдай мысль, не вовлекаясь…» – звучал в памяти спокойный голос учителя. Но мысли, как ядовитые змеи, жалили его, одна страшнее другой. Образы Максима, подключённого к аппаратам, Лиды, её алый шарф, ставший символом его вечной вины, зияющая спираль в реакторе, холодный, безличный Голос из Разлома, обещающий знание ценой души – всё это вихрем неслось в его сознании, не давая ни секунды покоя.
Он пытался найти ту точку тишины, ту «пустоту», о которой говорил Доржо, где нет ни страха, ни желаний, ни самого «я». Но натыкался лишь на стену собственной боли, собственного ужаса, собственного, кричащего от отчаяния «я».
«Не-деяние… – прошептал он, и его губы скривились в горькой усмешке. – Принятие…». Но как не действовать, когда на кону жизнь твоего сына, когда мир вокруг тебя сходит с ума и грозит увлечь за собой в бездну всё сущее? Как принять это чудовищное, извращённое «настоящее»?
Его пальцы судорожно сжали обугленное зерно, висевшее на груди. Оно было тёплым, почти горячим. Возможно, путь Доржо, путь отречения и созерцания, был не для него. Не сейчас. Не в этом аду. Или он просто ещё не был готов, его душа была слишком изранена, слишком привязана к этому миру страданий. Но сама попытка, само отчаянное усилие вспомнить, уцепиться за эту древнюю мудрость, придало ему новую, холодную, почти нечеловеческую решимость. Если он не может найти покой, он найдёт силу. Силу, чтобы встретить то, что его ждёт. Не как жертва. А как тот, кто, даже падая в пропасть, попытается увлечь за собой своих палачей.
Вместо паники и отчаяния пришла холодная, тёмная решимость. Он не пытался медитировать на успокоение – наоборот, он позволил своему дару обостриться до предела, впитывая в себя гул «Анатолии», ощущая её трепещущее, больное сердце. Он вспоминал слова Доржо о не-деянии, которое иногда бывает самой сильной формой действия, о пустотности всех явлений, даже самой смерти. Он мысленно перебирал свои немногочисленные артефакты – камень с дырой, обугленное зерно, шрам-спираль на запястье. Это были не просто сувениры из прошлого. Это были его инструменты. Его оружие. Или его погребальные дары.
Дверь палаты открылась. На пороге стояли двое «кураторов» в белом. За ними маячила фигура Штайнера, бледного и напряжённого. Елена стояла чуть поодаль, её лицо было непроницаемо.
Время пришло.
Артём медленно поднялся с койки. В его движениях не было ни страха, ни протеста. Только это новое, ледяное спокойствие обречённого, знающего свою судьбу и принявшего её. Но не смирившегося.
Он шёл по гулким коридорам «Анатолии», мимо безликих дверей, под тусклым светом аварийных ламп. Гул станции, всегда бывший для него фоном, теперь звучал иначе – как погребальная песнь, как барабанный бой, сопровождающий его в последний путь.
Двери лаборатории «Омега» распахнулись перед ним, как пасть чудовища. Знакомое кресло в центре зала, опутанное проводами, ждало его.
Артём сделал глубокий вдох и шагнул навстречу своей мандале распада.
Он был готов.
Глава 48: Невидимая Спираль
Ночь на «Анатолии» была временем призраков. Для Артёма, по крайней мере. Сон давно стал роскошью, коротким, мучительным забытьём, из которого он выныривал с колотящимся сердцем и привкусом пепла во рту. Но и бодрствование не приносило покоя. Образ Лиды, стоящей у массивной бетонной стены реакторного блока, преследовал его с неотступностью тени. Её белокурые косички, алый шарф, такой нереально яркий на фоне серого, безжизненного бетона, и её маленькая, тонкая ручка, указующая на что-то, невидимое для других. Трещина-спираль.
Он снова и снова прокручивал в памяти тот момент. Ужас, смешанный с леденящим прозрением. Связь. Чудовищная, фатальная связь между смертью его сестры, его собственным шрамом на запястье и этой едва заметной аномалией в сердце атомного монстра. Это не могло быть просто галлюцинацией, игрой измученного радиацией и стрессом воображения. Это был ключ. Он чувствовал это каждой клеткой своего истерзанного тела. И эта мысль, эта одержимость, стала для него важнее собственной безопасности, важнее запутанных игр Крутова и Елены, важнее даже призрачной надежды на спасение Максима через «Протокол Омега». Если он не разгадает тайну спирали, всё остальное не будет иметь смысла.
Артём сидел на краю жёсткой койки в своей стерильной, безликой комнате, неосознанно потирая шрам на левом запястье. Старая отметина, оставленная колесом того самого грузовика, казалось, зудела и пульсировала, отзываясь на его мысли, на его навязчивое видение. Он должен был найти подтверждение. Должен был увидеть её снова.
План созревал в его воспалённом мозгу медленно, мучительно. Проникнуть в тот сектор реакторного блока снова было почти самоубийством. После его предыдущей «аномальной чувствительности» контроль там наверняка усилили. Но мысль об отступлении была невыносима.
Он начал готовиться с лихорадочной тщательностью. Если ему и удавалось раздобыть обрывки схем технических коридоров – мельком увиденные у Елены или Штайнера, восстановленные по памяти – он часами изучал их, запоминая каждый поворот, каждую вентиляционную шахту. Он пытался вычислить графики обхода патрулей, отмечал «слепые зоны» камер наблюдения, которые интуитивно «чувствовал» своим даром, как участки «холодного, немигающего взгляда».
Напряжение нарастало с каждым днём. Его руки дрожали всё сильнее, головные боли, ставшие его постоянными спутниками после первого провального запуска «Омеги», теперь превращались в раскалённые тиски, сжимавшие череп. Но он упорно гнал от себя мысли об опасности, о последствиях. Только спираль. Только подтверждение.
Рисковать физическим проникновением сразу он не решался. Сначала – разведка. Он заперся в своей комнате, сел в позу лотоса, как когда-то учил его Доржо, и попытался «просканировать» тот сектор реактора своим даром. Он концентрировался, направляя всю свою ментальную энергию, всю свою волю, пытаясь «увидеть» сквозь толщу бетона и стали, почувствовать ту аномалию, на которую указала Лида.
Это требовало колоссального, нечеловеческого напряжения. Его дар, и без того искажённый и нестабильный, сопротивлялся, взбрыкивал, как необъезженный конь. Вместо чётких образов перед его внутренним взором мелькали хаотичные вспышки света, искажённые, рваные звуки гудящего реактора смешивались с детским плачем и шёпотом Голоса из Разлома. Приступы тошноты подкатывали к горлу, мир качался, даже когда он сидел неподвижно.
Но иногда, на краткий, мучительный миг, сквозь эти помехи, сквозь эту стену боли и хаоса, он улавливал её. Слабое, едва заметное «излучение», болезненный холод, исходящий именно оттуда, из глубины реакторного блока, где, как подсказывала ему память и чутьё, должна была находиться спираль.
После одной из таких особенно интенсивных попыток «сканирования» у него хлынула из носа кровь. Густая, тёмная, она капала на серый казённый пол, образуя маленькие, зловещие лужицы. Он едва успел её остановить, смыть следы, прежде чем его могли обнаружить. Это был первый серьёзный «звонок» – его тело не выдерживало такого насилия.
Он выбрал ночь, когда, по его расчётам, основанным на подслушанных обрывках разговоров техников и анализе графиков смен, которые он с риском для жизни умудрился мельком изучить на одном из оставленных без присмотра терминалов, контроль в секторе-гамма должен был быть минимальным. Это была отчаянная авантюра. Каждый его шаг за пределами блока был игрой со смертью или, что хуже, с новой, ещё более изощрённой формой плена.
Он двигался по тёмным, гулким коридорам, прижимаясь к стенам, замирая при каждом отдалённом звуке. Каждый поворот был риском, каждый неосвещённый участок – потенциальной ловушкой. Это не было лёгкой прогулкой. Его статус «особого объекта» означал, что система безопасности «Анатолии», пусть и сфокусированная на внешних угрозах, имела и внутренние протоколы. Он знал, что его отсутствие в блоке рано или поздно будет замечено. Время играло против него.
Дважды ему пришлось замирать в тёмных технических нишах, пропуская патрули. Фонари охранников тревожно шарили по стенам, их лучи проходили в сантиметрах от его лица. Сердце колотилось так, что, казалось, его стук слышен за версту, заглушая даже гул реактора. Он сжимал в кармане камень с дырой, пытаясь через его холодную твёрдость сфокусировать свой мятущийся дар, заставить его служить не источником боли, а проводником, способным уловить опасность до того, как она станет фатальной.
В какой-то момент, проходя мимо одной из камер наблюдения, которую он по старым схемам считал «слепой» или временно отключённой для профилактики, он почувствовал её холодный, немигающий «взгляд» на себе. Паника сдавила горло. Он заставил себя идти дальше, не ускоряя шаг, не оборачиваясь, ожидая окрика, топота сапог за спиной. Но ничего не произошло. Через несколько секунд ощущение «взгляда» пропало. Сбой в его восприятии? Или… кто-то намеренно деактивировал сигнал тревоги?
Мысль о Елене, о её возможной, скрытой игре, снова обожгла его. Она знала о его одержимости этим сектором. Её «проверка» не прошла даром. Не могла ли она… «позволить» ему эту вылазку, чтобы посмотреть, что он будет делать, что найдёт? Чтобы получить ещё больше данных, ещё больше рычагов? Или чтобы окончательно убедиться в его безумии и списать со счетов? Эта догадка не приносила облегчения, наоборот, добавляла ещё один слой ледяного ужаса к его и без того отчаянному положению. Он был пешкой, которую двигали по доске, даже когда ему казалось, что он делает собственный ход. Но отступать было поздно. Спираль звала его, и этот зов был сильнее страха перед любыми ловушками.
В кармане его куртки лежал камень с дырой. Он то и дело сжимал его, пытаясь сфокусировать свой мятущийся дар, заставить его служить, указывать путь, предупреждать об опасности.
Наконец, он достиг цели. Тот самый сектор. Тот самый участок массивной бетонной стены, отделявшей его от ревущего сердца «Анатолии». Тусклый свет аварийных ламп едва освещал это мрачное, гулкое пространство. Он подошёл к стене, всматриваясь в её серую, монолитную поверхность. Ничего. Или почти ничего. Если очень приглядеться, можно было заметить тончайшую, как волосок, царапину, изгибающуюся в едва заметную спираль. Но была ли это она? Или просто дефект бетона, который его воспалённое воображение превратило в зловещий знак?
Разочарование боролось в нём с упрямой, почти безумной верой в своё видение, в свою маленькую сестру. Он закрыл глаза, приложил дрожащую ладонь к холодному бетону.
«Лида… покажи мне…» – прошептал он, не отдавая себе отчёта в своих словах.
Он снова попытался активировать свой дар, но на этот раз не распыляя его, а сконцентрировав всю свою волю, всю свою боль, всю свою любовь и вину в одной этой точке, в этом прикосновении.
Минуты тянулись, как вечность. Он стоял, прижавшись к стене, чувствуя, как его тело начинает бить мелкая дрожь, как пот стекает по спине. И вдруг, на самом пике невыносимого напряжения, когда казалось, что его мозг вот-вот взорвётся, он «увидел» её.
Это было не зрение. Это было нечто иное. Словно пелена спала с его внутреннего взора. Спираль. Она была там. Она пульсировала слабым, болезненным, мертвенно-бледным светом, который, казалось, исходил из самой толщи бетона. От неё веяло не просто холодом – от неё веяло застывшим временем, вечностью, в которой запуталась и застыла какая-то древняя, чудовищная ошибка.
Это было оно. Подтверждение.
Краткий, почти экстатический миг триумфа тут же сменился волной невыносимой, разрывающей боли. Резкий, как удар кинжала, приступ мигрени пронзил его голову. Мир перед глазами качнулся, поплыл. Стена перед ним словно ожила, «задышала», а спираль на ней начала извиваться, превращаясь в гигантскую, светящуюся змею, готовую к броску. Слуховые галлюцинации – низкий, утробный гул, смешивающийся с тихим, зовущим шёпотом Лиды – обрушились на него.
Он рухнул на колени, его сотрясала крупная дрожь. Горло сдавил спазм, и его вырвало желчью. Ожог от обугленного зерна на другой руке, которое он всегда носил в другом кармане, внезапно вспыхнул острой болью, словно отвечая на пробуждение спирали. На мгновение он потерял сознание, или, может быть, его разум просто отказался воспринимать этот ужас.
Неизвестно, сколько он так пролежал. Очнулся он от ледяного холода, пронизывающего до костей. Собрав остатки воли, он заставил себя подняться. Голова раскалывалась, ноги не слушались, но инстинкт самосохранения кричал, что нужно убираться отсюда, немедленно, пока его не обнаружили.
Шатаясь, как пьяный, он побрёл обратно, тем же путём, каким пришёл. Каждый шаг отдавался болью во всём теле.
Он получил то, что хотел. Подтверждение. Но теперь он знал – или, вернее, чувствовал – что эта спираль не просто трещина в бетоне. Это нечто живое, или, по крайней мере, реагирующее. Опасное. Глубоко связанное с самой сутью «Анатолии», с её проклятым чёрным песком, с той бездной, в которую его толкали. И его отчаянные попытки «увидеть» её, прикоснуться к ней, не прошли бесследно ни для его тела, ни для его рассудка.
Вернувшись, наконец, в относительную безопасность своей комнаты, он рухнул на койку, не в силах даже раздеться. Позже, мельком взглянув на своё отражение в тусклом зеркальце, он отшатнулся. Из зеркала на него смотрел измождённый безумец с провалившимися глазами, в которых горел лихорадочный, нездоровый блеск. Шрам на его запястье, казалось, стал темнее, рельефнее, словно тоже пробудился от долгого сна.
Невидимая спираль стала видимой. По крайней мере, для него. И это знание было страшнее любого неведения. Это был ещё один виток в его личной мандале распада.
Глава 49: Чёрный Шёпот Песка
Возвращение из реакторного блока, от пульсирующей в бетоне спирали, было похоже на возвращение с того света. Артём рухнул на койку, и несколько часов провёл в тяжёлом, липком забытьи, где не было ни снов, ни мыслей – только гулкая пустота и ноющая боль во всём теле. Когда он, наконец, пришёл в себя, мир вокруг показался иным. Не внешне – всё та же стерильная белизна казённой комнаты, тот же монотонный гул «Анатолии» за стеной. Изменилось его восприятие. Особенно – восприятие чёрного песка.