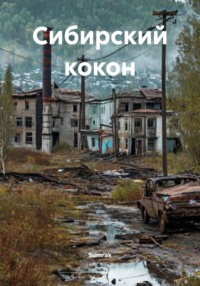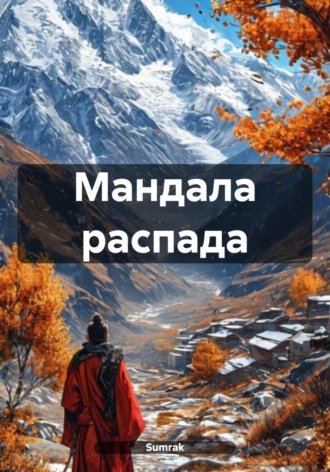
Полная версия
Мандала распада
Обугленное зерно, теперь бережно хранимое в старом мешочке ламы вместе с камнем с дырой, казалось ему единственным инструментом, способным пролить свет на эту тьму. Если оно так остро реагировало на чёрный песок и энергетику станции, то что произойдёт, если поднести его непосредственно к трещине? Сможет ли он тогда увидеть больше, понять глубже?
Мысль эта была безумной, опасной. Его последний поход к реактору чуть не закончился провалом, а видение Лиды выбило его из колеи на несколько дней. Но сейчас, подстёгиваемый отчаянием и какой-то иррациональной надеждой, он решил, что должен рискнуть. Он должен снова подобраться к тому месту, к самой ране мира, и на этот раз не с пустыми руками. Он должен услышать, что говорит этот разлом.
Задача была не из лёгких. После инцидента с его «аномальной чувствительностью» в том секторе, контроль там, пусть и негласно, усилили. Люди Крутова стали внимательнее, а Штайнер, хоть и проявлял научное любопытство, явно опасался выходить за рамки дозволенного. Елена… он не мог ей доверять настолько, чтобы просить о помощи в таком рискованном предприятии.
Артём начал выверять свой план с лихорадочной тщательностью. Он часами изучал схемы вентиляционных шахт и технических коридоров, которые ему удалось мельком увидеть в кабинете Черниговского. Запоминал графики обхода патрулей, отмечал слепые зоны камер наблюдения, которые он интуитивно «чувствовал» своим даром. Он должен был выбрать момент, когда его отсутствие не вызовет подозрений, и когда вероятность быть замеченным будет минимальной.
Обугленное зерно он спрятал в маленький кожаный кисет на шнурке, который повесил на шею под рубашку. Камень с дырой лежал в кармане. Эти два осколка его прошлого, два немых свидетеля его пути в ад, должны были быть с ним. Нервное напряжение нарастало с каждым часом, превращаясь в тугую, звенящую струну внутри. Несколько раз он пересекался с Еленой в коридорах; её внимательный, изучающий взгляд заставлял его сердце сжиматься от подозрения, что она что-то чувствует, но он старался держаться как можно естественнее, изображая усталость и апатию.
Выждав несколько дней, он выбрал ночь, когда на станции должна была проводиться плановая проверка систем аварийного охлаждения одного из вспомогательных блоков. Это означало повышенную активность технического персонала в определённых зонах и, как он надеялся, некоторое ослабление бдительности в других.
Под покровом этой искусственной суматохи, когда большинство «кураторов» и охраны были отвлечены плановой проверкой систем аварийного охлаждения, Артём, как тень, выскользнул из своего корпуса. Сердце колотилось так, что, казалось, его стук слышен за версту. Он не просто шёл по памяти или схемам, которые успел изучить. Его обострённый дар, пусть и причинявший ему боль, сейчас служил ему своего рода локатором. Он «чувствовал» работающие камеры как участки «холодного, внимательного взгляда», а маршруты патрулей – как «тёплые, движущиеся потоки» в энергетическом поле станции. Это позволяло ему выбирать самые безопасные пути, хотя риск всё равно был огромен.
Первый же участок оказался сложнее, чем он предполагал: дверь в нужный технический коридор, обычно приоткрытая, сегодня была заперта на новый электронный замок. Проклятье! Он потерял несколько драгоценных минут, пока, лихорадочно вспоминая схемы, нашёл обходной путь через узкий, пыльный вентиляционный короб, рискуя застрять или поднять шум. Протискиваясь сквозь него, он едва не сорвался, когда одна из хлипких крепёжных скоб под его ногой предательски скрипнула.
Выбравшись, он замер, пытаясь унять бешено колотящееся сердце и отдышаться. Впереди – длинный, тускло освещённый коридор с несколькими камерами наблюдения. Он знал их примерное расположение, но не был уверен в их «слепых зонах» на сто процентов. Его дар подсказывал, что одна из камер в конце коридора работает с периодическими сбоями – её «взгляд» на мгновение мерк, а затем снова становился чётким. Это был его шанс. Прижавшись к стене, он короткими перебежками преодолевал открытые участки, каждый раз ожидая, что вот-вот взвоет сирена. Внезапно за углом послышались шаги и приглушённые голоса. Артём едва успел скользнуть в тёмную нишу за штабелем каких-то ящиков, затаив дыхание, пока патруль из двух охранников неторопливо прошёл мимо, их фонари едва не коснулись его укрытия. Сердце ухнуло куда-то вниз. Ещё несколько таких «сюрпризов», и его ночная вылазка закончится, не успев начаться. Время, отведённое ему суматохой плановой проверки, истекало.
Наконец, он достиг цели – того самого участка внешней защитной оболочки, где ему привиделась Лида. Трещина-спираль, почти невидимая при тусклом аварийном освещении, всё так же змеилась по серому бетону. Но Артём чувствовал её всем своим существом – как холодное дыхание из потустороннего мира, как зияющую рану в самой ткани мироздания.
Дрожащими пальцами он расстегнул ворот рубашки и достал кисет с обугленным зерном. Ладонь, державшая его, вспотела. Он глубоко вздохнул, пытаясь унять дрожь, и медленно поднёс зерно к тому месту, где спираль трещины была наиболее выражена.
В тот момент, когда обугленная частица его прошлого коснулась или оказалась в непосредственной близости от этой аномалии, реакция превзошла все его самые смелые и страшные ожидания. Зерно не просто потеплело или завибрировало, как это было в его комнате. Оно вспыхнуло! Ярким, пульсирующим, тёмно-красным светом, похожим на застывшую каплю крови или на далёкий отсвет адского пламени. Этот зловещий свет озарил на мгновение лицо Артёма, исказив его черты, и отразился в его расширенных от ужаса и предвкушения глазах.
Одновременно он почувствовал мощнейший энергетический толчок, исходящий, казалось, из самой глубины трещины и резонирующий с зерном в его руке. Удар был такой силы, что он едва устоял на ногах, инстинктивно вцепившись в какой-то выступ на стене. Мир вокруг качнулся, звуки на мгновение пропали, сменившись оглушающим высокочастотным звоном в ушах. Его дар, его проклятая способность видеть и чувствовать то, что скрыто от других, обострился до невыносимого предела. Он видел не просто поверхность бетона – он видел, как сама структура материала искажается вокруг трещины, как пространство и время истончаются, словно ветхая ткань, готовая вот-вот разорваться. Он заглядывал «внутрь» разлома.
И тогда его накрыло. Это было не похоже на его прежние видения. Не смех Лиды, не мудрые глаза Доржо. Это было нечто иное – холодное, древнее, бесконечно чуждое. Словно сама суть разлома, сама первозданная пустота, из которой он возник, попыталась установить контакт.
Перед его внутренним взором не было чётких образов, скорее – калейдоскоп вихрящихся энергий, тёмных, бездонных пространств, пересекающихся линий судьбы, похожих на обугленные, кровоточащие нервы мироздания. Среди них мелькали искажённые, мучительные образы: Лида, её глаза пусты, а изо рта сыплется чёрный песок; Максим, хрупкий, как стекло, заключённый в медленно вращающийся кристалл времени, который покрывался трещинами; Доржо, чьё лицо рассыпалось в прах на его глазах, а губы беззвучно шептали: «Ты выбрал…» А над всем этим, как гигантская, нечестивая мандала, нависала пульсирующая тень «Северного Моста», похожая на пасть космического чудовища, медленно раскрывающуюся, чтобы поглотить всё сущее.
Затем из этого хаоса выделился… не шёпот, не звук. Скорее, прямое вливание смысла, вибрация, резонирующая с самой основой его существа. Его разум отчаянно пытался облечь этот поток чистой, лишённой эмоций информации в знакомые образы и понятия, но они рассыпались, как песок сквозь пальцы. То, что он воспринимал, было безличным, как гул самой вселенной, но каждое «слово», если это можно было назвать словами, отдавалось в его черепе множеством диссонирующих обертонов, словно говорило не одно, а легион, слившийся в единое, непостижимое «Я».
«Ищущий… жаждущий… Расколотый сосуд, стремящийся к целостности… Боль твоя – видима. Связи твои – ощутимы. Сын твой… в хрупком кристалле времени… Кристалл может быть разбит… Узоры судеб могут быть переплетены заново… Пути откроются… недоступные пониманию твоему… Раствори границы… стань каналом… позволь вечному течению пройти сквозь тебя… Соединись… и обретёшь… то, чего желаешь… или то, что предначертано…»
Обещания знания, силы, исцеления… они не звучали человеческими словами, но их суть проникала в Артёма, минуя фильтры разума. И в этой безличной мощи чувствовалась неописуемая, древняя угроза, словно сама вечность предлагала ему сделку, условия которой он никогда не сможет постичь, а цену – никогда не выплатить. Это была не просто сила, это была сама энтропия, сам распад, предлагающий ему иллюзию порядка через окончательное разрушение.
Видение или контакт оборвались так же внезапно, как и начались. Резкая, пронзительная боль в висках вернула его к реальности. Он стоял, шатаясь, прижавшись спиной к холодной бетонной стене. Кровь снова текла у него из носа, пачкая рубашку. Зерно в его руке погасло, но оно было горячим, почти обжигающим.
Паника охватила его. Он должен был убираться отсюда, немедленно! Пока его не обнаружили, пока это «нечто» из разлома не поглотило его окончательно. Едва держась на ногах, он, спотыкаясь, бросился прочь из этого проклятого сектора, обратно, по тёмным коридорам, к иллюзии безопасности своей комнаты.
Добравшись до неё и рухнув на койку, он долго не мог отдышаться. Шёпот всё ещё звучал у него в голове, как навязчивая мелодия. Он посмотрел на обугленное зерно, которое всё ещё сжимал в кулаке. Оно казалось другим – словно впитало в себя частицу той тьмы, той чужеродной силы из разлома.
Искушение было велико. Но вместе с ним пришло и леденящее осознание. Это была ловушка. Изощрённая, дьявольская ловушка. «Открыть дверь шире»… Что это означало? Выпустить на волю то, что скрывалось за этой трещиной? И какой ценой? Он понял, что его используют не только люди – Крутов с его государственными интересами, Елена со своей одержимостью местью и наукой. Его пытались использовать и какие-то иные, неизмеримо более могущественные и древние силы, для которых он был лишь пешкой, ключом к чему-то ужасному.
Глава 42. Отголоски Бездны
Артём не помнил, как добрался до своей комнаты после того кошмарного контакта у трещины. Сознание вернулось к нему рывками, вытягивая из вязкого, тяжёлого забытья, похожего на преддверие смерти. Первое, что он ощутил – это боль. Тупая, всепроникающая, она ломила каждый сустав, каждую мышцу, словно его тело пропустили через гигантскую мясорубку или подвергли ударам невидимого тока. Голова раскалывалась от мигрени такой силы, что свет, пробивающийся сквозь щель в шторе, казался раскалёнными иглами, вонзающимися прямо в мозг. Во рту стоял отвратительный привкус крови и пережжённого металла.
Он с трудом разлепил веки. Комната плыла перед глазами. Ладонь, в которой он инстинктивно всё ещё сжимал старый мешочек Доржо, горела огнём. Разжав пальцы, он увидел на коже чёткий, воспалённый отпечаток обугленного зерна – багровый, пульсирующий тупой болью. Он попытался сесть, но мир качнулся, и волна тошноты подкатила к горлу. Слабость была такой, что даже простое движение требовало неимоверных усилий. Он заметил на подушке и на воротнике рубашки тёмные, засохшие пятна крови – носовое кровотечение, видимо, было сильнее, чем он предполагал.
Кое-как добравшись до маленькой раковины в углу, он посмотрел на своё отражение в треснутом зеркале. Из него на него глядел измождённый незнакомец с мертвенно-бледным лицом, запавшими, лихорадочно блестящими глазами и тёмными кругами, словно выжженными под ними. Он выглядел так, будто не спал много суток или только что вернулся с того света. И, возможно, так оно и было.
Физическая боль была лишь половиной беды. Гораздо страшнее было то, что творилось у него в голове. Шёпот из разлома, холодный и вкрадчивый, не исчез. Он затих, но его эхо продолжало звучать на задворках сознания, как навязчивый, сводящий с ума мотив. Обещания исцеления, власти, знания – всё это теперь казалось ядовитой приманкой, но отмахнуться от неё было невозможно. Обрывки видения – вихрящиеся потоки тёмной энергии, бездонные пространства, манящие и пугающие одновременно – вспыхивали перед глазами, накладываясь на серую реальность комнаты, заставляя его сомневаться в собственном рассудке.
И его дар… он изменился. Словно тот чудовищный выброс энергии из разлома, усиленный резонансом обугленного зерна, не просто ударил по нему, а… взломал что-то глубоко внутри. Ему казалось, что его мозг, его нервная система были подвергнуты какому-то немыслимому воздействию, словно его «внутренний приёмник», до этого работавший на определённых, пусть и аномальных, частотах, был насильно перенастроен, перепрошит на другую, более мощную, хаотичную и разрушительную волну. Возможно, Голос из Разлома, эта чужеродная, безличная сила, сознательно или бессознательно «сорвала» с него какие-то внутренние ментальные «фильтры», которые раньше, пусть и несовершенно, но позволяли ему дозировать и как-то интерпретировать поток информации, получаемый через дар. Теперь этих фильтров не было. Он воспринимал всё «напрямую», без защиты, и это было невыносимо.
Хуже всего было с людьми. Он ещё не выходил из комнаты, но даже мысль о встрече с кем-то вызывала приступ паники. Он боялся того, что он может увидеть. Его дар, искажённый контактом с бездной, теперь не просто показывал ему трещины в будущем – он словно сдирал с людей их привычные маски. Он не видел ауры в мистическом смысле, но его мозг, работающий на пределе, с невероятной, болезненной остротой считывал малейшие микровыражения, изменения в тоне голоса, едва заметные жесты, и тут же достраивал, гипертрофировал их до пугающих, гротескных образов. Скрытая тревога техника в его восприятии превращалась в уродливую гримасу ужаса, затаённая неприязнь – в тёмную, клубящуюся тень, окутывающую фигуру. Это была не магия, а ад его собственного, вышедшего из-под контроля восприятия, усиленный знанием о том, на что способны люди, и той бездной, что заглянула в него. Контролировать этот поток информации, отфильтровывать его, становилось почти невозможно, и это истощало его стремительно, высасывая последние остатки воли.
Паранойя, всегда дремавшая где-то на периферии его сознания, теперь расцвела пышным цветом. Ему казалось, что за ним постоянно следят. Не только камеры и «кураторы» Крутова, но и что-то ещё – невидимое, неосязаемое, исходящее от той трещины, от самого сердца реактора. Каждый скрип, каждый шорох за дверью заставлял его вздрагивать и лихорадочно озираться.
Что это было? Галлюцинация, порождённая его истерзанным мозгом, радиацией и энергией этого проклятого места? Или… нечто реальное?
Он вспомнил обрывки тех немногих документов отца Елены, которые ему удалось мельком увидеть. Профессор Черниговский, помимо чисто технических расчётов, писал о «побочных эффектах» экспериментов с монацитовым композитом. Об «аномальных информационных полях», возникающих при определённых условиях. Он даже выдвигал гипотезу о том, что эти поля могут быть не просто пассивными, а обладать… признаками квази-разумности. «Эхо предыдущих кальп», как он это назвал в одной из своих самых смелых и, видимо, засекреченных записей. «Или же… разумная энтропия, стремящаяся к взаимодействию, к поглощению порядка…»
Тогда Артём счёл это бредом гения, слишком глубоко погрузившегося в свои теории. Но сейчас… этот безличный, всепроникающий «Голос», обещавший знание и силу ценой «растворения границ» … не был ли он тем самым «эхом» или «разумной энтропией», о которой писал Черниговский? Сущностью, пробуждённой их экспериментами, их вторжением в законы мироздания? И трещина-спираль… не была ли она дверью, которую они сами приоткрыли для этого нечто?
Мысль эта была настолько чудовищной, что Артём попытался отогнать её. Но она возвращалась снова и снова, ледяным ужасом сковывая его сердце.
Несмотря на своё ужасное состояние, Артём понимал, что не может вечно отсиживаться в комнате. Его отсутствие на обязательных утренних процедурах или в столовой вызовет подозрения. Он должен был заставить себя выйти, изобразить подобие нормальности, чего бы ему это ни стоило.
Собрав остатки сил, он умылся, переоделся в чистую рубашку, стараясь скрыть дрожь в руках. Путь до столовой показался ему пыткой. Каждый встреченный по пути техник или охранник вызывал у него приступ неконтролируемой тревоги. Их лица… он старался не смотреть на них прямо, но боковым зрением улавливал эти жуткие, искажённые маски их истинных сущностей, их страхов и пороков.
В столовой он почти не притронулся к еде, чувствуя, как его мутит от запахов и гула голосов. И тут, как назло, к его столику подошла Елена. Она выглядела, как всегда, безупречно – строгий комбинезон, собранные волосы, внимательный, пронзительный взгляд.
– Ты выглядишь неважно, Артём, – сказала она, её голос был ровным, но в нём слышались нотки беспокойства… или подозрения. – Что-то случилось? Ночью на станции была небольшая суматоха с проверкой систем, ты не мог…
– Просто не выспался, – с трудом выдавил он, стараясь не смотреть ей в глаза, боясь увидеть в них что-то, чего он не хотел знать, или выдать себя неконтролируемой реакцией. Его новый, обострившийся дар кричал ему, что Елена что-то скрывает, что её беспокойство – лишь фасад, за которым прячется холодный расчёт. Он почувствовал исходящую от неё волну амбиций, такой силы, что ему стало трудно дышать.
– Тебе нужно быть в форме, – продолжила она, не сводя с него глаз. – Нам предстоит много работы. Крутов готовит какой-то новый этап… испытаний. И нам нужно быть на шаг впереди.
Артём лишь неопределённо кивнул, пробормотал что-то о необходимости отдохнуть и поспешил уйти, оставив Елену смотреть ему вслед с задумчивым и, как ему показалось, всё более подозрительным выражением лица.
Вернувшись в свою комнату, он рухнул на койку, совершенно разбитый. Этот короткий выход в «мир» отнял у него последние силы. Он в отчаянии снова достал старый мешочек Доржо. Обугленное зерно, лежавшее на обожжённой ладони, казалось теперь не просто тёплым, а почти горячим, и от него исходила слабая, едва уловимая вибрация, резонирующая с гулом станции. После контакта с разломом оно изменилось, «зарядилось» этой тёмной энергией, но стало ли оно от этого более опасным или, наоборот, способным защитить? Камень с дырой, напротив, был холодным, спокойным, словно островок стабильности в этом бушующем океане безумия.
Артём попытался сосредоточиться, вспомнить практики медитации, которым учил его Доржо, но его сознание было слишком возбуждено, мысли метались, как обезумевшие птицы в клетке. Он снова достал пожелтевший листок с письмом учителя. Он снова и снова перечитывал строки о «реакторах, меняющих карму», о «чёрном прахе предыдущих кальп», об опасности «игры в Бога». Теперь эти слова звучали не как абстрактные предостережения, а как прямое описание того ада, в котором он оказался. Он искал в них ответ, намёк, хоть какую-то зацепку – как защититься от того, с чем он столкнулся, как понять природу «Голоса из Разлома». Но письмо лишь подтверждало его самые страшные опасения: он заигрался со силами, которые были неизмеримо древнее и могущественнее его. «…и лишь тот, кто несёт в себе искру истинного сострадания и готов к великой жертве, сможет попытаться замкнуть этот круг разрушения…»
Артём закрыл глаза, пытаясь унять дрожь. Сострадание? Жертва? Он судорожно пытался ухватиться за спасительные практики, которым его годами учил Доржо. «Наблюдай мысль, не отождествляйся с ней, – звучал в памяти голос ламы. – Боль – это просто ощущение, оно приходит и уходит, как облако на небе твоего сознания. Не ты – боль. Ты – небо». Артём силился стать этим бесстрастным наблюдателем, этим чистым небом. Но облака его страха, его физической муки, его всепоглощающей вины перед Максимом и Лидой превратились в непроглядную, удушающую грозовую тучу, извергающую молнии безумных видений и ледяной шёпот из разлома. Он задыхался в ней. Он пытался сосредоточиться на дыхании, на простой анапанасати, как учил его Доржо – наблюдать вдох, наблюдать выдох, без оценки, без суждения. Но каждый вдох приносил лишь металлический привкус крови и запах озона с АЭС, а каждый выдох – новую волну тошноты и отчаяния. Принцип непривязанности, о котором так много говорил учитель, казался жестокой насмешкой, когда каждый нерв его тела кричал от боли, а сердце разрывалось от ужаса за сына. «Всё есть страдание, – вспоминал он слова Будды, пересказанные Доржо, – но есть и путь избавления от страдания, есть Четыре Благородные Истины, есть Восьмеричный Путь…» Но сейчас Артём видел только страдание, бесконечное, всепоглощающее, и никакого пути из него, кроме как ещё глубже в эту проклятую бездну, куда его толкали обстоятельства и его собственное, сломленное отчаяние. Его духовные якоря были сорваны, и он дрейфовал в ледяной тьме, не видя ни берега, ни спасительного маяка, и мудрость веков рассыпалась пеплом в его руках.
Он сжал в руке холодный камень с дырой, пытаясь уцепиться за его твёрдость, за его молчаливое свидетельство прошлого. Но даже камень, казалось, вибрировал отголосками той бездны, в которую он заглянул. Доржо учил распознавать иллюзии, видеть пустотную природу всех явлений. Но как распознать иллюзию, которая обещает спасение единственного, что для тебя по-настоящему важно? Как отличить шёпот Мары от голоса отчаянной надежды? Он был потерян, его духовные якоря сорваны, и он дрейфовал в ледяной тьме, не видя ни берега, ни спасительного маяка…
В памяти всплыл один из разговоров с Доржо, давно, ещё в Бурятии, когда Артём был подростком, а его дар только начинал проявляться пугающими вспышками. Они сидели у старого, выветренного субургана на вершине холма, и лама, глядя на бесконечную синеву неба, говорил тихим, размеренным голосом:
– Мир не так прост, как кажется, Артём. Он многослоен, как луковица. И между слоями есть… истончения, трещины. Древние тексты называют их «вратами Мары» или «шёпотом пустоты». Через них иногда просачиваются… эманации. Сущности без имени и формы, порождения хаоса или отголоски миров, что были до нашего и будут после. Они не добры и не злы в нашем понимании. Они – иное. И они ищут… резонанса. Ищут тех, чья душа тоже треснула, чтобы через них влиять на этот слой бытия. Особенно опасны места, где человеческая глупость или гордыня пытаются играть с силами, им неподвластными. Такие места притягивают их, как свет – ночных мотыльков. Или как кровь – хищников.
Тогда Артём не придал этим словам особого значения, списав их на буддийскую метафоричность. Но сейчас, после того, что он «услышал» у трещины-спирали, слова Доржо обрели зловещий, почти буквальный смысл. «Анатолия»… не было ли это место именно таким – раной на теле мира, притягивающей нечто древнее и чужеродное?
Что ему делать? Голос из Разлома манил обещаниями, но интуиция кричала, что это ловушка. Елена вела свою игру, Крутов – свою. Он был один, зажат между молотом и наковальней, между человеческим коварством и потусторонней угрозой.
Несмотря на ужасные последствия ночного эксперимента, он не мог просто сидеть сложа руки. Он получил доступ к чему-то… к чему-то за гранью. И это знание, каким бы опасным оно ни было, могло стать его единственным оружием. Или последним гвоздём в крышку его гроба. Он не знал, как, но он должен был продолжать. Возможно, не так безрассудно, как прошлой ночью. Но он должен был понять больше о трещине, о «Голосе», о связи всего этого с «Северным мостом», о котором так туманно говорила Елена.
Но это решение, созревшее в глубине его отчаявшегося сознания, не принесло облегчения. Наоборот, чувство тотальной, всепоглощающей изоляции стало почти невыносимым. Он не мог никому довериться, никому рассказать о том, что пережил. Он был пленником «Анатолии», пленником своего дара, пленником своего прошлого.
Он лежал на койке, глядя в потолок, когда в дверь его комнаты коротко и властно постучали. Сердце ухнуло вниз. Он знал этот стук. Это не была Елена.
– Гринев! Откройте! Срочно к господину Крутову! – раздался за дверью бесцветный голос одного из «кураторов».
Артём медленно поднялся. Новая волна дурноты подкатила к горлу. Что ещё? Неужели они что-то узнали о его ночной вылазке? Или Крутов решил, что пришло время для нового «этапа испытаний», о котором говорила Елена?
Он посмотрел на свою обожжённую ладонь, где багровел след от обугленного зерна. И внезапно, с леденящей ясностью, он испытал новое, острое предчувствие. Это было связано не с Крутовым. Это было связано с Максимом. Что-то случилось. И это «что-то» было плохим. Очень плохим.
Бездна, в которую он заглянул прошлой ночью, не собиралась отпускать его. Она лишь готовила для него новый, ещё более страшный круг ада.
Глава 43. Вердикт Судьбы
Слова «куратора», сухие и безжизненные, как сводка с поля боя, отозвались в измученном сознании Артёма похоронным колоколом. К Крутову. Срочно. Предчувствие беды, связанной с Максимом, которое ледяной змеёй обвило его сердце ещё ночью, теперь сжалось в тугой, удушающий узел.