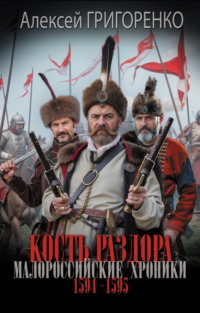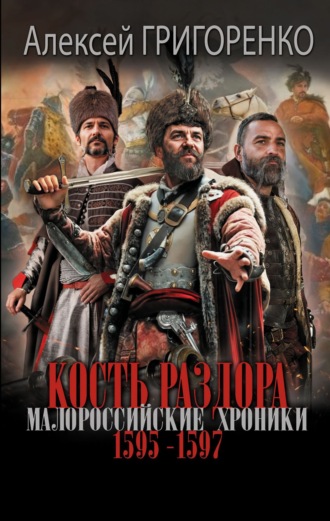
Полная версия
Кость раздора. Малороссийские хроники. 1595-1597 гг
Так епископ Кирилл Терлецкий терпел обиды и поношения, но стоит заметить также и то, что превелебный владыка наш имел связи с сильными и влиятельными магнатами Речи Посполитой и сам был высокого и знатного рода, кроме того, ему покровительствовал и князь Василий-Константин Острожский, но все это в целокупности мало ему помогало… Каковыми же по сути были тогда страдания простого волынского духовенства или тех же селюков-посполитых?..
Я приведу единый пример тогдашнего житья и бытья сельских панотцов, выхваченный наугад досужей моей рукой из целого вороха подобного судового хламья.
В 1594 году, июля 22-го, священник Суходольский, панотец Наум, явившись в уряд гродский Владимирский, горько и слезно жаловался на шляхтичей Оранских. Дело же было вот в чем. Оранские, разбойничая в округе с толпой своих слуг, вооруженных ручницами и прочим огненным боем, наехали на суходольские земли, принадлежащие князю Юрию Чорторыйскому. В это время никак сам нечистый дернул отца Наума поехать на свое поле осмотреть пашню, – и вот, свершив мирное это дело, панотец возвращался домой, и тут его встретили разбойные шляхтичи. Предлог для задержания панотца был вполне благороден: Оранские просили священника прочесть отходную молитву над неким простреленным и умиравшим в муках человеком. Священник исполнил свой долг и шляхетскую просьбу, однако после этого Оранские схватили его, били и мучили, привели в свое имение Ораны и, посадив в тюрьму, приковали его цепью к уже бездыханному телу того человека, над которым панотец прочитал отходную молитву.
Надо также отметить, что эта жалоба так и осталась в судовых гродских книгах без какого-либо вразумительного ответа, а тем более действия. Да и кто таков был этот малый суходольский панотец Наум, чтобы на него еще тратить драгоценное время возных, подсудков и судей?..
Превелебный же Кирилл, дабы как-то утихомирить и приостановить нападки на него пана Александра Семашко, подал на него жалобу в Люблинский трибунальный суд, зная, что совсем ничего не добьется в нашем Луцком гродском суде, где безраздельно властвовал пан Александр. Владыка доказывал в жалобе, что он имеет полное право жить в Луцком замке, в епископском доме, и свободно отправлять богослужение в соборной церкви святого Иоанна Богослова, потому что все его предшественники, епископы Луцкие и Острожские, с давних веков при той церкви жили и при ней жизнь скончали, спокойно отправляя богослужение; тем более что в церкви сей тела государей христианских, великих князей русских, лежат и гробы их находятся. Кроме того, епископ Кирилл просил трибунальный суд взыскать с пана Семашко 10 тысяч злотых в вознаграждение за убытки и оскорбления.
Люблинский трибунал определил, что Кирилл Терлецкий должен пользоваться епископской властью и уважением, как ему то и подобает, и жить в епископском доме, в замке Луцком, отправляя богослужение в соборной церкви, – по стародавнему обычаю. Что же касается 10 тысяч злотых, то столь щекотливый вопрос трибунал не смог решить достоверно на месте и препроводил дело в суд гродский Владимирский для всестороннего исследования и рассуждения, предписав тяжущимся сторонам явиться в тот суд в ближайший судовой срок.
И хотя суд Владимирский решил дело в пользу епископа, адвокаты пана Александра Семашко, объявив свое неудовольствие, опять перенесли дело в трибунальный суд апелляционным порядком.
Но пришел час отстраниться от сих страшных и порой бóльшее зло предвещающих судовых актов и открытым взором взглянуть на нашего тяжущегося с неутомимым Семашко епископа, изнемогающего под таким непосильным бременем.
Размышляя о превелебном Кирилле в его толиких страданиях, я представляю в мыслях своих и вызываю на погляд света сегодняшнего те скорбные, а не радостные, как должно, для епископа пасхальные дни 1591 года, когда он, удрученный жаждой и голодом, столь остро ощущаемыми его изнеженным телом, сидел в холодной, пустой и гулкой замковой церкви соборной, и вокруг, невидимый и не спящий в пасхальной ночи, лежал его Луцк, епископская столица Волыни: доносился до слуха его густой и раскатистый благовест праздничных колоколов, сквозь приотворенное в темень окно веяли сырые, живительные и ни с чем не сравнимые запахи очередной нарождающейся весны, осененной благодатию великого Празднества…
О, благословенная, милая моя Русь-Украина!..
Светлая Пасха Христова…
Весна земли твоей и обновление бытия…
Потемнелые льдины, величественно и неспешно плывущие в стрыйской свободной воде, играющей веселыми отражениями-бликами.
О, пасхальная мати моя, Русь-Украина, – сохраниться тебе и пребыть в веках нерушимой и юной!..
Думал ли об этом и тако наш заключенный епископ, лишенный радости пасхальной заутрени, я не знаю, но мнится мне, что в эту пронзительную и чудесную ночь воспоминания о главном событии нового времени, преобразившем ток всей мировой истории, душа Кирилла, не совсем еще омраченная хитробесием и зловерием, сквозь пелену обиды на старосту пана Александра Семашко, должна была содрогаться от припоминательной радости, когда начинал звучать в памяти особым строем пасхальный кондак, на осьмый глас выводимый хором небесным:
«Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: Радуйтеся! и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.
Воскресение Христово видевше, Поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняимся, Христе, и Святое воскресение Твое поем и славим. Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем, приидите вси вернии, поклонимся Святому Христову воскресению. Се бо прииде Крестом радость всему миру, всегда благословяще Господа, поем воскресение Его; распятие бо претерпев, смертию смерть разруши».
Мню сие, ибо все-таки епископ Кирилл был пока еще человеком церковным.
Он был один, – и никого не было в храме, – и это в такой день и в таком месте!.. Просто не верится в таковое. Ведь храм сей соборный во имя святого Иоанна Богослова был построен на этом месте святом в 1180 году древнерусским князем Ярославом Изяславовичем и был на землях сих первым строением из белого камня, а не из древа, и с той поры не бывало такого пасхального дня в истекших столетиях, чтобы не звучал здесь пасхальный привет, – даже когда Луцкий посад был раздавлен татарской навалой в 1255 году, а замок выдержал осаду Куремсы, племянника Батыя… И вот – такой вот пасхальный подарок от старосты, совсем недавно еще бывшим по вероисповеданию православным… Горела пред чтимой иконой единственная восковая свеча, перевитая золотой нитью, и откуда-то, может быть, из города, лежащего у подошвы Любартовой горы, доносилось это тихое пение: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав…»
Или, быть может, это сами ангелы правили в вековых этих стенах незримую службу?..
И пальцы епископа в щепоти поднимались ко лбу, и он творил размашистое и истовое крестное знамение, шепча холодными устами молитву…
Так ли все было?..
Или иначе?..
Но если иначе и если ангелы не пели праздничного кондака, и владыка не ощущал ничего, кроме сосущего голода, пекущей гортань жажды и невероятной обиды на старосту, то вкупе с ними должен был он слышать иные слова и видеть иное.
Ибо ночь та была не простая.
Сказано святыми отцами тысячу лет назад, что над каждым мирянином зрит очами духовными подвижник единого беса, над монахом же – двух.
Сколько бесов реяло в ту пасхальную безмолвную ночь над велебным Кириллом – исчесть невозможно, ибо нет зрения такового духовного, дабы увидеть их, но, по всему судя, было их весьма много.
Может быть, именно в эту самую ночь, проведенную велебным епископом в уединении, ступил к нему прямо из алтаря некий человек, одеянный в черное все, ночи беспросветной подобное, или же не человек, а ему уподобленное существо, для умиротворения и неиспуга епископского принявшее вид и зрак человеческий.
Они остановились друг против друга, ибо епископ, увидев его, восстал с седалища своего и ступил к нему по вольной воле своей, – и между ними не было произнесено ни единого слова, ибо владыка с замирающим сердцем услыхал в самом себе все то, к чему сейчас призывался…
Было так.
Искусительно описать хотя бы бледность великую лица сего падшего ангела, явившегося епископу Кириллу Терлецкому, – аз, грешный Арсенко Осьмачка, тоже однажды видел подобное, и, кажется, это был все тот же демон, помрачающий разум и губящий душу, – но на словесное описание оного нет мне небесного благословения. Посему лишь скажу, искушения избегая и греховный прилог отсекая: бледен он был.
Был он – бледен…
И зная, каким вышел епископ из несостоявшейся для него ночи пасхальной, я могу заключить о достоверности явления ему самого сатаны.
Была ли, по обычаю, продана епископом душа за блага земные? Был ли договор, скрепленный кровью, как писано в хрониках прежних веков о таковых людях, Кириллу подобных? И что было предписано епископу сделать? Все эти вопросы навсегда остались покрытыми непроницаемой тайной.
Отражение бледности чужеродной, отблеск ее, до самой смерти в мае 1607 года остался на владычном челе.
Размышляя над всем последующим, сопоставляя свидетельства очевидцев, судовые акты, в которых отражалась лишь слабая тень той прошлой громокипящей жизни, положившей начало и бесконечное продолжение дням нашим сегодняшним, со всеми нашими бедами, войнами и погибелью, и бумаги иные, в общих чертах можно догадаться о сути и смысле той таинственной сделки в пасхальную ночь 1591 года, ночь сугубого епископского одиночества, ибо когда рассвело, в древней соборной церкви в замке Любарта уже находился во всем другой человек.
Справщики и позднейшие летописцы, коим уподобился и аз грешный, обращавшие внимание на эти поразительные изменения, произошедшие с превелебным владыкой Терлецким, пытались объяснить их тем, что епископ, будучи знатного происхождения, воспитывался в роскоши и весьма любил земные греховные блага, и потому воля его изначально была несколько размягчена и ослаблена, прежде чем он получил ощутимые жизненные тяжелые уроки от религиозного перевертыша-ренегата пана Александра Семашко. Кроме того, летописатели и самовидцы утверждают, что епископ Кирилл не имел тех твердых убеждений, известных в святоотеческой традиции, которые в несчастьях дают человеку, обладающими ими, неодолимую силу. Не подлежит сомнению и то, что пан Семашко действовал против епископа подобными методами при прямом и дальновидном попустительстве короля Сигизмунда III, управляемого в свою очередь иезуитами и в целом урядом Речи Посполитой, предоставив свободному епископскому выбору либо оставаться верным православию и подвергаться вечным преследованиям таких вот семашек, и, вполне вероятно, подвергнуться даже мученичеству и исповедничеству жизнью своей, что вовсе не входило в резоны бытия и жития сытого и превеселого в сане епископа, или же, сообразуясь с устремлениями как Рима, так и уряда польского, стать униатом (или недокатоликом-недоверком), – но стать таковым не столько лично, сколько принеся Риму дары: бросив Русскую Церковь под шитые жемчугом папские башмаки… И в награду за дар сей наслаждаться спокойствием, неотчуждаемым богатством и великими почестями. Ну и славой, конечно же, как «возобновителя единой и неразделенной Церкви Христовой».
Это, разумеется, канва внешняя, но и она важна для глубинного постижения прошедших событий, но как тело без духа мертво пребывает, так и внешние приметы не могут до конца объяснить истинные причины толикого падения как епископа Кирилла Терлецкого, так и всей Церкви нашей в целокупности, или отколовшейся вслед за епископами посполитой частью ее. Ведь что говорить, – не единый епископ Кирилл подвергался таким искушениям, но многие наши русские иерархи… Вспомнить хотя бы епископа Иону Борзобогатого, или нареченного епископа Марка Жоравницкого, или же владыку Холмского, а затем Владимирского, Феодосия Лазовского, но ничье нравственное, человеческое и религиозное падение не повлекло за собой такого церковного разрушения, как падение и духовная гибель превелебного нашего Кирилла Терлецкого.
Но рассуждая об этом сейчас, на половине нашего мысленного пути по истории луцкой епископии и ее возглавителя епископа Кирилла, я поневоле забегаю вперед, нарушая блаженную риторическую композицию, и посему предадимся, любый читальник мой, мудрой воле мерно текущей хроники нашей и впредь не будем поспешать в изъяснении.
Итак, договор с сатаной, как и бескровная сдача епископского служения силам зла состоялась, и через год – в 1592 году, июня 22-го дня, епископ Кирилл Терлецкий заключил с паном Александром Семашко мировую сделку: былые супротивники лично явились в уряд гродский Владимирский и торжественно объявили, что при посредстве неких таинственных «приятелей» они прекращают и уничтожают все возникшие между ними тяжбы. Епископ и духовенство церкви соборной святого Иоанна Богослова на вечные времена отреклись от обвинений в обидах и оскорблениях, причиненных Семашко духовенству и церкви. Со своей стороны, староста освободил епископа и соборное духовенство от всех обвинений и судебных исков. В силе оставлен был только трибунальский декрет, на основании которого велебному Кириллу было предоставлено пользоваться епископской властью и уважением, а также отправлять богослужение в Луцком соборе по стародавнему обычаю.
Итог малый сей невиданной на Волыни тяжбы между двумя главными особами столичного града кажется мне несколько странным: то, что и так по праву принадлежало епископу и что было уже прежде определено судом трибунальским в Люблине, во Владимире просто подтвердили, – и все, и владыку это – вдруг – вполне удовлетворило, и никаких с сей поры жалоб уже ни на что… И я все думаю, и не могу уяснить чего же здесь было больше: христианского смирения (улыбнусь), усталости от бесконечных словесных разборов и путешествий по судовым палатам городов Речи Посполитой в поисках управы на старосту луцкого, отчаяния от невозможности перешибить плетью обуха, или же просто исполнения некоего не называемого до времени вслух обязательства. О чем непреложно свидетельствует то, что как только притеснения от старосты прекратились, Кирилл становится ревностным сторонником «воссоединения» Восточной Церкви с Западной, исполняя, по всей видимости, не только «доброзычливые советы» иезуитов, но и те обязательства, принесенные им некоей сущности, о чем я уже говорил, в пасхальную ночь 1591 года в замковой церкви святого Иоанна Богослова. При всем том не все вершилось епископом Кириллом тайно, – нет-нет, – многое обсуждалось на ежегодных соборах с собратьями-епископами вполне официально и в присутствии многочисленного духовенства, кое-что обсуждалась в кулуарах и за обильными трапезами; Кирилл вне всякого сомнения обладал даром расположения к себе кого угодно, ежели ему было то нужно, ведь не случайно патриарх Константинопольский Иеремия дал ему сан и звание своего экзарха на всех землях Речи Посполитой еще в 1589 году, не случайно и сам Василий-Константин Острожский покровительствовал Кириллу во всех начинаниях, и даже – по непроверенным слухам, распостраняемым, вероятно, самим же Кириллом и его клевретами, вполне прислушивался к этой идее о «соединении церквей» воедино, – сидел на соборах и слушал, до времени особенно не вникая в особицу этого дела. Но, думаю я, Кириллу и надобно было только того, чтобы старый князь не вникал без нужды в эти разговоры, – он просто выигрывал время. А время, как известно, вспять не воротишь, и когда князь наконец-то очнулся от сладкого морока, навеянного райскими речами и магией высоких словес ни о чем превелебного епископа Луцкого, – очнулся, огляделся и опомнился, – то время уже миновало и церковный воз уже несся с кручи прямиком в бездну раскола и гибели. И не только гибели душевной или духовной, но и телесной, потому что началась та война, в первых днях коей я был самовидцем в Брацлаве, а затем и в Луцке, когда козаки Павла Наливайко взяли приступом город сей и многих людей здесь побили, – и после того, как дело Наливайко закончилось и сам он обрел кончину свою в лютой казни, война эта – религиозная по сути война, как в Европе за сто лет до наших часов, начало которой положил все тот же велебный епископ Луцкий Кирилл, – отнюдь не закончилась, но продолжалась и продолжается по сю пору.
И вот уже завершается год 1635-й, и завершается моя жизнь, но не кончается эта война. И кто знает – что будет с нашей державой Речью Посполитой? Сохранится ли еще она в целости и неразделенности, как при прежних королях, при Сигизмундах I и II, как при Батории, когда так хороша страна была наша, что слыла в Европе единственной державой без вогнищ, а граница восточная проходила под Тулой, в двуста верстах от Москвы? Ныне же вот какова ухмылка самого ангела тьмы: под видом «соединения веры» произошло губительное разделение трех народов, составляющих единое государство – ляхов, литвы и нас, русских людей, – и расколота в самоистреблении былая «держава без вогнищ»…
Но вернусь я мыслию своею от будущи́ны печальной к «Луцкой хронике» нашей прошлых годов, дабы продолжить бесстрастную нотацию бед, обид и неправд, которые чинились здесь, на Волыни, и унавоживали почву для Кириллова преступления, отступления и предательства.
И снова будет рассказ здесь о пане Александре Семашко, старосте Луцком, о других его славных деяниях, раскопанных мною в залежах судовых актов, – отсюда читальник мой наступных годов уразумеет, что не токмо превелебный Кирилл страдал тако от сего ревностного не по разуму защитника польских законов в подвластной ему луцкой земле (но и законов ли? – зададимся вопросом).
Так, все в том же роковом для Кирилла 1591 году, мая 18-го дня, Александр Семашко прислал в монастырское село Жидичин во время ярмарки вооруженных людей для сбирания в свою пользу мыта, принадлежащего по праву Жидичинскому монастырю. На другой день по его приказанию прибыл в Жидичин подстароста луцкий с вооруженным отрядом слуг и гайдуков, насильно ворвался Жидичинский монастырь и, «поселившись в нем», разослал своих слуг и гайдуков собирать мыто и прочие доходы, издавна принадлежащие монастырю.
Наблюдая такой произвол луцкого головы, и другим гродским чиновным людям захотелось легкого «духовного хлеба». И все это делалось при полном попустительстве варшавского уряда. Иным можновладным шляхтичам идеи приходили в разум очень оригинальные в грабительском смысле. Так, по окончании первого собора в Бресте, о котором я уже рассказывал прежде, в 1590 году, когда Кирилл, как достойнейший из соборян был делегирован к королю Сигизмунду с жалобами православных на притеснения ото всех и отовсюду и отправился в Сандомир для исполнения порученной миссии, – войский же луцкий Ждан Боровицкий, пользуясь такой неразумной отлучкой владыки, завладел в Остроге епископским подворьем и, испытуя под муками, допытывался у служителей епархиальных, где хранятся деньги, и грозил «жечь их железными шинами», ежели не откроют секрета. По возвращении в Острог епископ нашел, что двери в его кладовых разломаны, печати оторваны, замки у сундуков отбиты, деньги, оружие, серебряные сосуды и богатые одежды похищены, «пять бочонков мальвазии и бочка рейнского вина оказались пустыми…».
Криштоф Лодзинский, державца Дорогобужский, притеснял в своей вотчине Дорогобужский монастырь, нападая на архимандрита и монастырских крестьян. Монастырь сей, имевший фундатором и покровителем славетного князя Острожского, пользовался особенными преимуществами. Он получал в свою пользу торговое – пошлину, которая собиралась с купцов, приезжавших в Дорогобуж на ярмарку. Монастырю принадлежало так же мыто, собираемое на гребле Ильинского пруда, и капщизна от варения монастырского пива. Все эти доходы мятежный державца отнял у монастыря и присвоил себе. А в 1593 году, июня 9-го дня, для устрашения недовольных убытками монахов, Лодзинский наслал на монастырь толпу вооруженных людей, которые ворвались в келию архимандрита Феофана и чуть его не убили, «стреляя из ручниц», – архимандрит едва спас свою жизнь бегством. От державцы страдали не только мирные монахи, но и, конечно же, посполитые крестьяне, принадлежащие монастырю, – вооруженные слуги Лодзинского нападали на монастырские имения, били крестьян и грабили скудные добра их, нажитые изнурительным трудом на полях.
В 1593 году, генваря 13-го дня, почил в Бозе Мелетий Хребтович Богуринский, епископ Владимирский и Брестский, один из немногих иерархов Церкви, оставшийся до самой смерти верным святоотеческой вере. В последние годы своей жизни он прожил в мире и тишине в местечке Городке Киево-Печерской лавры, архимандритом которой был на протяжении многих лет.
Будучи епископом соседней с Луцкой епархии и участником всех ежегодных духовных соборов, что проходили как раз в его епархиальном городе Бресте, епископ Мелетий, вероятно, ведал о многих тайных делах и приуготовлениях, которые во всей красе откроются всему нашему миру только осенью 1596 года, доселе же бывших под спудом. Посему тотчас же, проведав о кончине Мелетия, превелебный Кирилл ринулся в Городок и занялся тщательным разбором бумаг, принадлежавших покойному. Конечно, ничто, вывезенное Кириллом из Городка, не попало в Луцкий архив и не слетело под Стырову башню в мои лапы, – потому мне и тем, кто еще, верю, придет мне на смену, остается только гадать о том, что же было занотовано в тех документах о внутрицерковных делах, которые Кирилл просто сжег в печке, а частью увез бесследно с собой.
Монастырское и церковное имущество, оставшееся после смерти епископа Мелетия, было по обычаю «расхищено родственниками и другими приближенными лицами».
По смерти превелебного Мелетия Хребтовича остались незанятыми две крайне важные иерархические должности в Церкви: архимандрия Киево-Печерская и епископство Владимирское. Архимандритом стал Никифор Тур. Для передачи монастыря ему прислан был от короля коморник королевский пан Сосницкий, который, составив опись движимого и недвижимого имущества монастырского, ввел Никифора Тура во владение монастырем и всеми принадлежащими ему имениями.
О том негде будет больше упомянуть, и только здесь изыщу я возможность исчислить по описи той комория пана Сосницкого обширные имения славной на весь мир обители Киево-Печерской.
Ей принадлежали: город Васильков с укрепленным от неприятелей замком, местечко Радомысль – с таковым же замком, 59 сел в поветах Киевском, Овручском, Луцком, Пинском, Новоградволынском, Мозырском и Оршанском; рыбные ловли на Днепре, рудокопный завод над рекою Мыкою, дани медовые и иные доходы с пяти сел в Полесье, дань медовая с королевских сел Бобруйской волости, ежегодно приносившая меду до 300 пудов, и «некоторые другие доходы», как сказано в коморничей описи.
Епископом Владимирским и Брестским назначен был королевским повелением от 1593 года «в награду за его верные услуги королю и Речи Посполитой» Адам Поцей (или же Потей), каштелян Брестский, при посвящении в духовный сан наименованный Ипатием. Епископ этот прославился не уголовными преступлениями, как наш именованный Кирилл, но неистовой ревностью в деле отдания Церкви под владычество римского папежа. Хотя, думаю так, пусть бы лучше насиловал «вшетешниц, белых платков» и оружно грабил бы всякого, кто под руку попадет, как Кирилл, чем то, что с Кириллом они потом сотворили. Но должное отдадим и обширной учености Поцея – в отличие от вовсе неписьменного Кирилла, – он много чего написал и оттиснул гражданским шрифтом в друкарнях виленских и других. Исчислю труды его для полноты изложения своего: в 1595 году книжицу «Уния, альбо Выклад преднейших артикулов к зъодноченью Греков с костелом Римским належащих», а в 1608 году – «Гармонию, альбо Согласие веры, сакраментов и церемоний святыя Восточныя Церкви с костелом Римским». Помимо сего, составлено было по его поручению сочинение «Антиррисис», и в 1598–1600 годах три раза издавали ее униаты, в приложении к сочинению этому Ипатий помещал свои пространные рассуждения о первенстве папы. Особенным богословским содержанием отличается его ответ александрийскому патриарху Мелетию (Пигасу). Мне вряд ли придется возвращаться далее мыслью досужей к этой полемике, посему кратко исчислю вовсе не бесспорные доводы Поцея в ответе преждереченному патриарху.
«Греческий берег не может быть надежным путем жизни вечной…» – так Поцей доточно писал. И далее – кратко скажу: Евангелие у греков искажено, отеческие предания поруганы и перерваны, святость оскудела, – все расстроилось и распалось в турецкой неволе… В Александрии вместо Афанасия теперь Кальвин, в Константинополе Лютер, и в Иерусалиме Цвинглий (так намекал Поцей на Кирилла Лукариса и на самого Мелетия, учившегося в Аугсбурге). И Поцей поэтому предпочитает Рим. На Западе теперь – «студенец правды», чистота веры и твердый порядок… Тако он мыслил и тако утверждал словом своим.