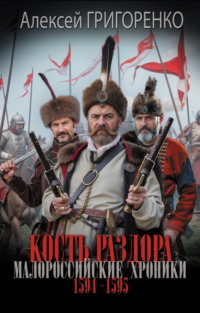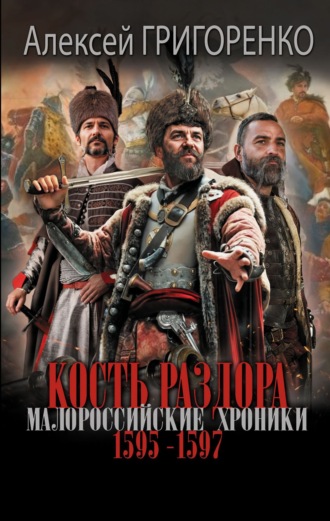
Полная версия
Кость раздора. Малороссийские хроники. 1595-1597 гг

Алексей Григоренко
Кость раздора. Малороссийские хроники. 1595–1597
Книга 2
Роман
Девиз: Не журися, козаче, нехай твой ворог плаче.
Начало хроники Луцкой: О недостойных епископах плач, 1563–1595
Герой хроники сей разрозненной и скудоумной, составленной мной в тихий слухом, но не током свершений земных зимний час роков Божиих 1594–1595, превелебный Кирилл Терлецкий, луцкий значный епископ и сотворитель небывалого дела соединения и уврачевания церковного раскола XI столетия единым росчерком гусиного пера и приложения луцкой печати, не просто так воплотился здесь, на просторах волынской земли. Рассуждая отвлеченно и зная то, что произошло после и происходит по сию пору на землях окраинных Речи Посполитой, то бишь на землях русских, козацких или же православных, что по смыслу едино, можно с великой долей вероятности сегодня, с высоты року Божьего 1635-го, заключить, что велебный Кирилл бысть в некоем роде оружием Божиим на нас, бичом Господа нашего, или наказанием народу нашему за грехи немилосердия и непокорства, за несоблюдение заповедей Божиих, за те груды неправды, что чинил наш целокупный народ не токмо соседним народам, как то ляхам, литве, уграм, волохам, немцам и московитам, но прежде всего друг другу. Не мне здесь повествовать о внутренних наших бедах великих – о том и так все мы знаем. По сей причине я не дерзну рассуждать в хронике дел и насущных забот времени нашего в сократовых отвлеченных понятиях и сопоставлениях. Я – токмо летописец смиренный – по случаю того, что в руце мои потрапили Судовые акты недавно прошедшего времени, – и самовидец беспристрастный по данной мне мере, – по случаю того, что рядом находился, когда происходили какие-то события, как то, к примеру, разграбление осенью 1595 года козаками Павла Наливайко Луцка, в котором я сидел под Стыровой башней до поры козацкой навалы, или дело в урочище Солоница летом 1596 года, когда польному гетману Станиславу Жолкевскому и брацлавскому старосте Ежи-Юрасю Струсю выдали запорожцы спутанного вервием Наливайко, и иже с ним Саулу, Мазепу, Панчоху и Шостака, а несколько сотен козаков под водительством полковника Кремпского прорвали окружение и спаслись подле Днепра, сплавившись на байдаках за пороги.
После того прошли долгие и долгие годы. Подоспели летописания о тех делах польских и немецких летописателей и хронистов, которые чудесным манером попали мне в руки и в которых я прочел то, чего я не видел: как казнили атаманов Саулу, Панчоху, Мазепу и Шостака, а затем и самого Павла Наливайко, – но то все уже стало былью, а жизнь продолжалась, да так продолжалась, что и вспоминать уже некогда было о том, что происходило давным-давно в Брацлаве, в Луцке, в Бресте и в Риме. Мало того, что Кирилл наш Луцкий и Ипатий Владимирский все же продвинули свое дело унии с Римом, так и в Московии в скорых днях началась руина и смута такого размаха и сокрушения, какого и видано не бывало в европейских державах, – и в московских делах самое деятельное участие приняли наши паны Речи Посполитой во главе с королем Сигизмундом III, и королевич его Владислав почти стал царем на Москве, да и без запорожцев-черкасов наших отечественных разве могли такие дела обойтись?.. Война, разор и нестроение всегда были наилучшим временем для того, чтобы набить серебром седельную сумку. Наполнились внутренние польские города знатными заложниками из Московского плененного царства, без жалости разоряемого всеми, кому было не лень вылезти из-за печки, сесть на доброго коня и отправиться на северо-восток от хутора своего. Уже и повоевали там московиты, собравшись с последними силами перед неминуемой гибелью, и выбили в конце концов наших панов из Кремля своего, и прокляли с амвонов церковных наших героев вкупе со лжеименными царевичами димитриями все, кто только мог – от умученного голодом патриарха Гермогена Московского до безвестного, но подвигом великого монаха Иринарха-затворника в ростовских пределах, и царя уже выбрали нового в 1613 году, мальчонку совсем несмышленого, но со значным отцом, будущим патриархом Филаретом Никитичем, который пробыл в заложниках в Варшаве целое десятилетие и токмо по Деулинскому замирению вернулся в Москву, а все еще панство отечественное успокоиться не могло: пять лет уж как был на Москве царь Михаил Романов сын, а в 1618 году королевич Владислав двинул войско превеликое опять на Москву: царство-то в сложных переговорах бояре, да и сам Филарет тот Никитич, ему обещали, а, видишь, обманули, лукавые…
И столь велико войско польское было, что только одних запорожцев наш гетман Петр Конашевич Сагайдачный вел числом в двадцать тысяч, и стояли с пушечным боем и несметным морем вооруженных людей в виду златоглавых московских церквей у самых Арбатских и Тверских ворот Белого города, но что-то не сложилось у королевича и военачальников наших, великого гетмана литовского Яна-Кароля Ходкевича да у Сагайдачного, – видно, не было Божией воли на то, чтобы Владиславу стать московским царем после всех этих несчитанных димитриев и Марины Мнишек сандомирской, супруги верной каждого из них, – пограбили окрестности и на север ушли козаки, были там к весне 1619 года рассеяны и побиты, и вся армада наша домой воротилась ни с чем, если не считать бочонков, набитых московскими червонцами на нескольких возах Сагайдачного… Но это так я, к слову своему, прилагаю досужее. Недолго пробыл на уряде гетманском после возвращения из Московского похода наш славный гетман – под Хотином ранили татары его в руку отравленной стрелой, и помер он в Киеве нашем в году 1622-м в свои сорок годов, даром, что на парсунах с окладистой бородой, как москаль, зраком на старца вельми схож. Но успел гетман восстановить церковную иерархию православную нашу, разрушенную рекомыми Кириллом и Ипатем еще в конце прошлого века, о чем я и повествование свое начинаю. Ибо дело с «соединением» церквей, иначе говоря, подчинения нашей Церкви престолу Римскому и папе, на нем восседающему, было не столь незначительным, как могло бы кому-то со стороны показаться. Ибо спустя всего четверть века потребовалось целокупное козацкое войско запорожское, облеченное военной силой своей и решительностью, чтобы всего-навсего поставить 6 октября 1620 года в Братской Богоявленской церкви при посредстве иерусалимского патриарха Феофана Межигорского игумена Исайю Копинского в сан перемышльского епископа, игумена Киево-Михайловского монастыря Иова Борецкого в сан киевского митрополита, Мелетия Смотрицкого в сан полоцкого архиепископа, а также пять епископов в Полоцк, Владимир-Волынский, Луцк, Перемышль и Холм. Но это я уже вперед забегаю, и будет об том еще далее.
Заканчивая же в кратком слове о Петре Конашевиче Сагайдачном, надо сказать о том, что Сагайдачный, мучимый укорами совести, от имени всего Войска Запорожского просил иерусалимского патриарха Феофана «об отпущении греха разлития крови христианской в Москве» как о том самовидцы мне рассказывали, при том бывшие, на что патриарх Феофан «…бранил казаков за то, что они ходили на Москву, говоря, что они подпали проклятию, указывая для этого то основание, что русские – христиане».
Ныне же вернемся к истокам и к недалеким годам, что предшествовали утверждению на кафедре пуцкой епископа Кирилла Терлецкого.
И в связи с этим надо сказать, что в эпоху, предшествующую сим дням жизни, как и сейчас, пресветлые короли Речи Посполитой имели неограниченное право раздавать епископии и богатые монастыри по своему разумению и хотению (ибо только что помянутое мною восстановление православной иерархии в 1620 году хотя и произошло по факту, но законодательно на сеймах в Варшаве так и не утверждено до сих пор, то есть иерархии нашей как бы и нет, и епископы числятся вполне себе самозванными), и потому нарицались короли наши отечественные «верховными подателями столиц духовных и всех хлебов духовных». По этой удручающей посполитых причине в епископы и настоятели монастырей избираемы были, большей частью, лица светские из знатных шляхетских русских родов, не приуготовленные, разумеется, к исполнению высоких иерархических обязанностей. Да и как было образоваться наукой божественной такому искателю «духовных хлебов», если первые училища богословские устроены были только при короле Стефане Батории, да и то кем еще – замечательными нашими иезуитами. У иезуитов же тайные цели всем были доточно известны: сотворить из отроков русских родов настоящих и бестрепетных янычаров, ярых папежников. Одна из наиболее ранних попыток решить эту задачу была предпринята в 1576 году славным князем Василием-Константином Острожским совместно со знаменитой на всю Речь Посполитую своей глубоко несчастливой судьбой племянницей его Гальшей-Элжабетой. Он основал в своем родовом имении в Остроге греко-славянскую школу, которую современники называли Академией. В 1585 году была открыта братская школа в Вильне, а в 1586 году начала работать Львовская школа, ставшая первой братской школой на украинных землях, в кресах восточных. И только последней уже воссияла под небом вселенной наша бурса киевская благодаря отцу Елисею Плетенецкому. Посему, скажем честно, негде было не только обучиться чему-то полезному и значительному будущему епископу, но откуда еще и рядовое духовенство наше бралось – тоже ведь совсем я не дам на се ответа. Не иначе, как от Духа Святого образовывались наши панотцы, научаясь друг от друга в стенах больших и древних монастырей, таких как Печерский в Киеве или Свято-Духов и Троицкий в Вильне, или в Крестовоздвиженском в Дубно, а уже после того, как панотец Иов Зализо перешел оттуда, и в Почаевском Свято-Успенском, где он водворился знаменитым игуменом и до сей поры пребывает в звании оном.
Этих искателей православных епископских кафедр, как людей слабых на легкую поживу церковную, привлекали богатые имения, пожалованные епископиям и монастырям в седые времена славной древности князьями русскими, великими князьями литовскими и другими благочестивыми значными лицами, для благоустройства церквей, для учреждения школ и богаделен, да и просто – на вечное поминовение родителей и предков своих. Земли с годами прилагались к землям, села – к селам, городки – к городкам, пожертвования накапливались снежным комом, ибо люди рождались, жили и в свой срок помирали, завещая недвижимое не токмо кровным наследникам своим, но и Богу – в лице епископий и монастырей. Благочестивые фундаторы сии не предвидели, что их столь благие намерения будут иметь следствием великое зло для нашей православной Церкви Юго-Западной Руси-Украины, ибо во времена рекомые еще при жизни престарелых епископов шляхтичи значных родов и гербов, ведая о толиких размерах церковных имений, отправлялись к королю, упрашивали сенаторов, платили многие копы и копы грошей, румяных дукатов и звонких талеров белых и получали-таки право вступить в управление епархиею по смерти зажившего век епископа. До посвящения в епископский сан они назывались нареченными епископами. Так, в 1563 году шляхтич Иван Яцкович Борзобогатый-Красенский был нареченным владыкою Владимирским и Брестским, а Андрей Иванович Русин-Берестейский, бывший в 1566 году подстаростой луцким, через три года стал именоваться нареченным владыкою Пинским и Туровским. В 1569 году он хлопотал на знаменитом Люблинском сейме, когда была учреждена уния между двумя нашими прежними государствами Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, о получении епископии Луцкой, на что издержал 400 коп грошей. Но эти старания Русин-Берестейского не имели успеха, и он отдал Богу душу через десять годов, в 1579 году в сане того же епископа нареченного. С 1561-го по 1567 год упоминается в разысканных мною актах некий Марко Жоравницкий, нареченный владыка Луцкий и Острожский, – все эти годы он управлял епархией, оставаясь в светском звании.
Так же и богатые монастыри православные по воле католиков-королей и по ходатайствам им подобных сенаторов раздавались в управление и поживу светским лицам из дворянского звания. Так, к примеру, в 1571 году Михаил Игнатович Дчуса, землянин королевский Кременецкого повета, получил жалованную королевскую грамоту на игуменство Дерманского монастыря и управлял этим монастырем, не высвятившись даже в духовный сан. Его изгнал из монастыря славный наш князь Василий-Константин Острожский только через четыре года, в 1575 году. А Черичицкий монастырь Святого Спаса долгое время был управляем на основании жалованной грамоты королевской паном Дорогостайским, стольником Великого княжества Литовского, – и этот монастырь был отобран у пана стольника все тем же князем Острожским – в 1574 году, о чем сысканы мною были судовые акты, где утесненные в притязаниях князем паны вопияли о судебном отмщении. Иногда право на епископию по непонятным и загадочным для человеческого разумения причинам (впрочем, причины понятны вполне – раздор, вражда, нестроение, использованные годы спустя для известных дел в Риме) король предоставлял единовременно сразу двум лицам, и тогда спор между претендентами на епископию не ограничивался позовами в суд гродский, письменными жалобами и словесными перепалками, но обращался в настоящую домовую войну. Паны, решившие стать владыками душ и телес, были ведь плоть от плоти своего времени и своего же сословия, – ради вожделенных «хлебов духовных» они набирали целое войско друг против друга и силой овладевали как епископской резиденцией, так и другими имениями епархиальными. Для прочного и полного успеха и в достижении победы использовались пушки, гаковницы и другое оружие огненного боя, не говоря о пиках, саблях и осадных орудиях.
Эти нареченные епископы-победители по нескольку лет управляли епархиями, оставаясь в звании светском, но, если суждено было высвятиться кому-то из них в епископа настоящего, они продолжали вести беспорядочную и буйную жизнь. Ниже я приведу свидетельства о том, как некоторые из них, имея в услужении отряды гайдуков и других ратных людей, чинили самоуправство и лично участвовали в разбоях, грабежах и наездах, нарушая законы и пренебрегая королевскими установлениями, не упоминая уже о божественных заповедях.
Так что разве на пустом и чистом месте возросла теперешняя духовная смута?..
Но одно надобно указать со всей непреложностью, что такие епископы не могут служить укором для православной Церкви, как кому-то хотелось бы такового, потому что не она воспитывала их и не она возводила их в сан иерархов.
Как только очередной епископ отходил в мир иной, где ожидал его неминуемый Божий суд за недостоинство и злокозненность, королевские сановники брали в свое управление церковное имущество, грабили церковную казну, забирали или уничтожали жалованные грамоты и фундушевые листы на маетности, даже не гнушались выскабливать фундушевые записи, которые вписаны были, как казалось, навечно, в напрестольные Евангелия. Новопоставленный епископ всегда находил свою епископию ограбленною и в расстроенном состоянии. Короли польские в меру слабых сил своих стремились предотвратить разграбление церковных имений, издавая для сего особливые универсалы и постановления, но повеления эти, как правило, исполняемы не были. Но таково было общее и всегдашнее отношение к королевскому слову. Король вроде бы был, но каждый значный пан жил сам по себе, мало придавая значения королевскому слову. Иногда месяцами и кварцяное войско никуда послать не могли против татар, – втемяшется кому-нибудь в голову произнести излюбленное Liberum veto, – и грабят безнаказанно татары земли коронные, тысячами гонят к Перекопу ясырь, пока паны уговаривают несговорчивого гордеца забрать свое слово не позволям обратно.
Впору было бы и отчаяться, видя толикое запустение Церкви Божией, насилие ее даже в прежние времена, если бы не редкостные верные православия, которые, невзирая на таковой сатанинский разгул и на разливанное море католического иезуитства, оставались верными сыновьями Матери-Церкви, строили храмы и монастыри, учреждали при них школы и богадельни и наделяли их богатыми имениями от избытков своих земных. Их имена достойны остаться в нашей истории: князь Федор Андреевич Сангушко, владимирский староста, построил в своем имении Мильцах монастырь с церковью во имя святителя Николая. На содержание оного монастыря он назначил несколько крестьянских дворов и мельниц, такожде пять селений с крестьянами и со всеми их повинностями, записав свою дарственную запись в напрестольное Евангелие и пометив ее годом 1542, маем 23. Наследники его подтвердили эту фундушевую запись, объявив имения Мелецкого монастыря нераздельными и неприкосновенными, удержав за собою только право избирать из братии архимандрита или игумена и обязавшись защищать монастырь от всяких обид.
Василий же Загоровский, каштелян брацлавский, завещал устроить во Владимире, при своей фамильной церкви Ильинской богадельню, а в селе Суходолы – церковь с богадельнею для нищих и недужных, назначив из своих имений доходы на содержание духовенства; при Ильинской же церкви он устроил школу, в которой Дмитро-дьяк, коллега мой по призванию вот что делал, как в том документе написано: «…детей Руское науки в писме светом дать учити и, не пестяче их, пилне и порядне до науки приводити… А коли им Бог милосердный даст в своем языку Руском, в писме светом, науку досконалую, в молитвах к Богу, сотворителеви своему, и в отдаванью достойное чести и фалы егож светой а Бозской милости, в собе меть: тогды мает ее милость, пани дядиная моя, бакаляра статечного, который бы их науки Латинского писма добре учити мог, им зъеднавши, в доме моем велеть учить… Отколи им Бог милостивый даст уместность досконалую в Латынской науце, мают быть даны через их милость, паны приятеле мои, на таковые местца, где бы в боязни Бозской цвиченье им быть могло. Также, абы писма своего Руского и мовенья Рускими словы и обычаев цнотливых и покорных Руских не забачали, а наболшей веры своее, до которое их Бог возвал и в ней на сей свет сотворил, и набоженства в церквах наших, Греческого закону належного и порядне постановленого, николи, аж до смерти своее, не опускали, посты светые пристойне, последуючи слов збавителя нашего, в евангелие светой описаные, постили, Богу ся, сотворителеви своему, завжды молили, ближнего своего кождого, як себе сами, любили, а ереси всякое, як одное трутизны душевное и телесное, пилне ся выстерегали а от нее ся отгребали. А на останок, – писал в своем сем завещании примечательном пан каштелян Василий Загоровский, – именем Бога живого, во Тройцы единого и милосердного, в том их обовезую, абы с таковыми людми, которые, отступивши пристойных преданий церковных, ересей своеволне уживают, никоторого обцу, а ни вживаня з ними, приязни не мели и в домах таковых людей, кроме великое нужи и кгвалтованое потребы, николи не бывали…»
Увы, насущность сего наставления детям своим только усугубилась в нынешнее смутное время, когда всюду и везде наблюдаем мы «великие нужи», принуждающие нас сообщаться с заведомыми еретиками и духовными преступниками!..
Однако вернемся к нотации поименной тех немногих праведников, чьи следы мне довелось обнаружить в Луцком архиве в зимование рекомых годов молодой моей жизни.
Князь Богуш Федорович Корецкий, воевода земли Волынской, устроил в своих имениях три монастыря: Корецкий, Маренинский и Городиский, для прославления имени Божия и для поминовения прародителей, о чем записано в его духовном завещании от июня 21-го дня, 1579 года.
Пересопницкий монастырь со всеми его имениями пожалован был королем Александром Ягеллончиком фамилии князей Чорторыйских еще в самой оконечности прошлого, XV века. Со временем князю Юрию Чорторыйскому пришлось заложить церковное имение Пересопницу, отчего доходы, предназначенные на содержание монастыря, прекратились, – разошлась братия, прекратилось богослужение, чего не снесла богобоязенная душа сестры князя Юрия, Елены Горностаевой. Она выкупила Пересопницкое имение, возобновила монастырь, назначив на его содержание село Пересопницу со всеми доходами. Она же дала монастырю устав по законоположению святителя Василия Великого и по правилам святых богоотец наших, устроила при монастыре богадельню для убогих и недужных, а также школу для обучения крестьянских детей. Князь же Юрий Чорторыйский дал торжественный обет за себя и за потомков своих быть покровителем и защитником возобновленного Пересопницкого монастыря.
Таковы были праведники прошедших времен, – конечно, число их невелико, но они дают нам надежду, будучи малым светом добра в великой тьме неправды и преступления, окутавшей нашу несчастную родину.
Епископии Луцкая и Владимирская являются по достоинству своему важнейшими на землях русских – по обширности и по богатству имений церковных.
Епископии Владимирской, следуя нотации в «Описи церквей и имений», принадлежат: великая каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы во Владимире Волынском, с укрепленным епископским замком и с несколькими дворами, местечко Квасов, шестнадцать сел в поветах Луцком и Владимирском, и волость Купечовская, заключающая в себе местечко Озераны, одиннадцать сел и рыбных ловель. Кроме сего, епископии принадлежит остров Волослав на реке Луге, на котором находится монастырь святого Онуфрия.
Еще важнее по своему богатству и значению является епископия Луцкая и Острожская. Ей, по донесению коморника королевского о вводе епископа Кирилла Терлецкого в епископию от марта, дня 11-го, 1586 года, принадлежит соборная церковь святого Иоанна Богослова в замке Луцком, построенном вокруг нее еще великим князем литовским Любартом; в этой же церкви находятся, по преданию, гробница самого Любарта и гробы других князей русских и литовских. Епископии принадлежат также соборная церковь в Остроге и церковь святого Владимира во Владимире. Древние князья русские, великие князья литовские и другие первые чином и славою лица наделяли эту епископию богатыми имениями: ей принадлежат четыре местечка и тридцать четыре села в поветах Луцком и Владимирском, – из именованных местечек – местечко Хорлуп, пожалованное великим князем литовским Свидригайлом, и местечко Жабче защищены укрепленными замками, с пушками, гаковницами и другим оружием огненного боя.
В былую эпоху, потревоженную нашим любопытством, предшествующую теперешнему времени с его тягостными заботами, обе рекомые епископии находились во власти недостойных пастырей. В 1565 году, по смерти епископа Иосифа, явилось два кровных соперника, желавших «всех хлебов духовных» епископии Владимирской и Брестской: шляхтич Иван Борзобогатый-Красенский и епископ Холмский Феодосий Лазовский. Борзобогатый, стремившийся всей своей жизнью оправдать столь значительное свое фамильное прозвище и не пожалевший в сем земном оправдании даже будущей погибели души, исхитрился получить королевскую грамоту на епископство и, приняв скоропалительно сан нареченного владыки Владимирского и Брестского, завладел епископским замком, поручив его оборону от замедлившего епископа Феодосия своему сыну Василию, секретарю королевскому. Но король тогдашний Сигизмунд II Август, стремясь ублажить всех и каждого, дал свою жалованную грамоту на епископию Владимирскую и Феодосию Лазовскому, епископу Холмскому и Белзскому. Епископ же сей, чуть замедлив, отправился в свою новую епархию, но, предвидя некоторую, мягко скажем, недоброжелательность со стороны Борзобогатого, собрал значительное конное и пешее войско с пушками и иншим оружием, стремясь вооруженной рукой отнять у соперника своего столицу епископии. Далее о сем повествует виж урядовый, призванный для судового разбирательства сыном нареченного епископа Борзобогатого Василием:
«Владыка Холмский, отец Феодосий, одержал лист и дворанина з двору его кролевской милости пана Петра Семеновича, к тому з войском дей немалым, людом збройным, конным и пешим, з делы[1], з гаковницами и иными розными бронями, зобрался и хочет дей у столицу епископи Володимерское… А потом назавтрие, в пятницу, месяца тогож сентебра четертонадцать дня, на свитаню, почато на месте, в костеле лядском, на кгвалт звонити и дел чотыры против замочку владычнего заточивши, а одно дело на гребли, подле замку великого с чотырох дел стреляти, бити в церковь собрную и в замочок владычний на всех, хто одно в замочку был, и к тому люду пешого мнозство, с полтрети тисечи, к штурму под замочок приступивши, з гаковниц, з ручниц, владыка Холмский казал стеляти, а иных о колкодесять з гаковницами по домах мещан владычних засадивши, у замочок стреляти и, под стену подославши з огнем, запалити был розказал, што през целый день без перестани чинили, так же жаден з замочку выйти, а ни ся в замочку остояти не мог… А до замочку стреляючи и шесть штурмов чинечи, немало людей под замочком самиж побили, а церковь самую соборную, передцерковя и ганок з дел побито, пострелено, а в домех деревяных аж скрозь кули проходили с тых дел, которыми з замку великого стреляно…»
Выдержавши толикую осаду, учиненную по всем правилам воинского искусства, и столь претерпев, пан Василий Борзобогатый принужден был бежать из замка епископского, оставив свое и церковное имущество во власти победителя.