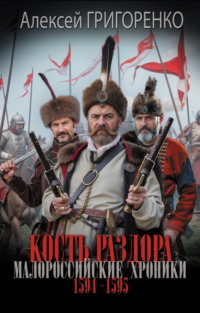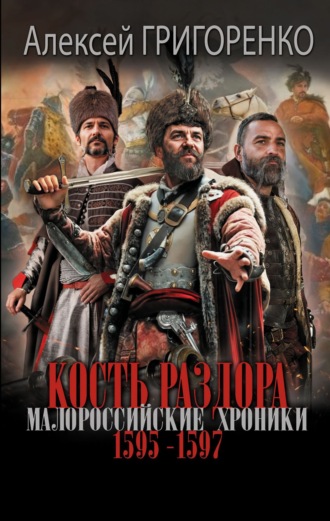
Полная версия
Кость раздора. Малороссийские хроники. 1595-1597 гг
Ищущий повода – всегда оный находит, это известно. И на солнечном диске, говорят ученые астрономы, есть темные пятна какие-то. Но это не значит, что декретом надобно отменить солнечный свет. И потом: ты считаешь, что у папы – «студенец правды», хорошо, пусть будет так: сними епископские одежды свои и отдайся под власть папы лично – прелатом ли или простым шляхтичом-исповедником. Но зачем ты русскую церковь, которой уже свыше шестисот лет исчислено, тащишь вслед за собой? Причем тащишь – обманом. Без рассуждения и обсуждения свободного, по-цыгански подменив золото начищенной медью и сладкими словесами о будущих земных благах. И даже – «вечную жизнь» обещаешь под папой… А чего же тогда Лютеру с Кальвином не хватало под папою? Не хотели разве они «жизни вечной»? Напротив, именно оную и взыскивали искренне. Они же и родились в ереси той – в «студенце правды», и знали оную до ее сатанинских глубин, но вот, поди ж ты, решили оковы папские сбросить… А вместе с ними – и на Британских островах король Генрих VIII еще когда – в 1534 году – разорвал всякие отношения с Римом… Наверное, не разумели они прикровенного о Риме, а вот Поцей с Кириллом – наши значные хуторяне – эти как раз уразумели дивным образом… Если бы довелось мне с римским папежом повстречаться, – но да не будет сего в веке сем и в веке будущей жизни, – я бы тако сказал римскому мудрагелю тому: ты, падлюка, в своих пределах наведи порядок какой-то, дай лад своим люторам, кальвинам, цвинглям и прочим тюдорам, а потом уже лезь к нам в украинные русские земли со своим «студенцом правды». И хай меня ранят тогда!..
Епископ же Кирилл наш отныне в соборной полноте и упоении пожинал благие плоды примирения с можновладным паном Семашко. Летописателю, размышляя о том, допустимо предположить, что временами душа его, отвлекаясь от высокой епископской чести, взывала к былой тишине (ежели опять-таки предположить о наличии в прошлом Кирилла сей внутренней тишины, умиротворяющей и животворящей душу), но некая поврежденность ее – то ли изнутри, то ли извне – была несомненно. Но отчего же, – задавал я себе вопрос, отрываясь от судовых актов, созерцая миготливый огонек каганца и отлетая душой и мыслью своей в некий ирий, что лежит, как известно каждому посполитому, между воздухом, которым мы дышим, и твердью небесной, за которой начинаются иные миры и куда попадают души усопших и мы сами в свой срок попадем, – отчего же от внешних Семашковых казней была та поврежденность, или от того, что с ним совершенно явно и точно – без всяких моих догадок и предположений – случилось в ту Пасхальную ночь 1591 года?.. Думаю, сам велебный владыка, будучи человеком вполне себе светским и духом веселым, особенно и не задумывался об этих материях, но беспристрастный составитель фрагментарной истории луцкой епископии обязан размыслить дело сие до пределов, которые попущены ему Богом. Для чего он, вероятно, и рожден в этом времени и наделен даром видения, разумения и письма.
Поврежденность, произошедшая с велебным Кириллом, была, на мой погляд, подобна чахотке: боль тела (или души) отсутствовала как таковая, но легкая горячечность и болезненное оживление замечались в поведении явственно. Ткань, пораженная тлением, проваливалась кусками, но безболезненно, и владыка до времени ничего не чувствовал и не ощущал, – только странную сухость, только горячечность и не всегда уместное оживление, о котором будет еще мною рассказано. Внешне он казался прежним: столп нашего русского православия, патриарший экзарх, неутомимый защититель епископии и всех земных владений ее, любитель церковного пения и богослужебного благолепия, – так внешне жив, крепок и цел он, что и заподозрить не мог никто, что изнутри владыка был снедаем огнем, и что скоро внутренности тела (души) его будут выедены дотла, – и опадет он, как подмытый берег в речную темную воду, крепкий остов его, превратившийся в скорлупу, в которой больше нет крепости, силы и смысла. Болезнь, или же рекомая поврежденность, неслышно и нечувствительно распостранялась в душе, пробиваясь огненными языками наружу, – и вот проглядывали уже малые темные пятна, будто бы кожу (жизнь его в мире внешнем) изнутри опаляло этим огнем, – отсюда обиды на прошлое, от которых мрачнело лицо владыки, отсюда тягостные и взывающие к отмщению припоминания, и самое первое из этого, ослепляющее черным огнем: Фалимичи, сентябрь 1590 года: казалось, он снова и снова слышит крики и воинственные возгласы приступающих к Фалимичскому замку вооруженных людей – холопов секретаря королевского Мартына Броневского, видит убитых, распростершихся в пожухлой траве…
Фалимичи!..
Но только ли это?..
И исчисленное опять таким образом, как в предлежащей мне кипе припавших пылью листов, было сродни тому, как если бы кто-то из шутников сыпанул бы пригоршню порохового черного зелья на тлеющие багровым уголья костра, – и епископу, едва переведшему дух от счисления обид и припоминаний, открылась некая простая и ясная мысль, будто подсказанная со стороны: для того, чтобы в будущи́не избежать подобных казней и мук, нужно не бездарно и по-христиански смиренно жаловаться «плачливе и обтяжливе» уряду на сильного, наглого старосту, с коим, в общем-то, примирение было достигнуто, как и было ему обещано в ту одинокую Пасхальную ночь, но объединившись или же договорившись о местах достойного промысла, дабы интересы их не пересекались в пространстве, чинить по своему разумению – правду.
Правду – конечно же, а что же еще?..
Только вот вопросить вслед за Пилатом ему разума не хватило: что есть истина?.. Ибо рассуждал наш Кирилл вполне по-земному.
И ему, еще и не произнесшему и звука названия, уже стало ясно, с чего он начнет, где и как накажет застарелый порок. Скрипнул седалищем, обернувшись к окну, и мутным, закровавленным взглядом (в левом глазном яблоке от невероятного напряжения, скопившегося в нем, лопнул мелкий кровеносный сосудец, и со стороны, если бы кто-то его увидал, подумал бы, что се вурдалак, обрядившийся в епископскую мантию, – но может быть, так и было оно?) посмотрел за окно, – и взор его в новом свойстве своем обретший как бы остроту и пронзительность, проницал в мысленном зрении толстые стены епископского дома-дворца, массивный камень древнерусской церкви соборной, замковый мох, землю и щебень, и, сквозь пустые пространства луцкой округи легко достиг начала этого припоминания: сельцо Фалимичи, в неправде потерянное, и тела убитых в пожухлой сентябрьской траве…
Фалимичи!.. Вдруг в изнеможении некоем он ощутил, как тянет некая сила его в это сельцо, в тот укрепленный от неприятелей замок на холме, чуть ниже Любартовой луцкой горы, как манит не только мысль и душу его в то сельцо, но и самое тело, – и владыка будто бы чувствовал, что еще многое в его жизни будет связано у него с теми Фалимичами.
Епископ Кирилл по обычаю думал недолго и в последующих событиях проявил себя по-прежнему решительным и боевитым владыкой, достойным обладателем духовной власти над богатейшей луцкой епископией: он кликнул клевретов своих, вооружил слуг и, как писано в моих Судовых актах, «благословив на ратный подвиг» своего зятя, мужа дочери Ганны, послал «святое воинство» под Фалимичи, потерянное, как я уже рассказывал, в 1590 году. Пан секретарь королевский со своими людьми был выбит из замка, и «во время штурма» архиерейские крестоносцы изуродовали некоего пана Гижевского, которому, как стало известно время спустя, просто-напросто отрубили руку. Этот приблудный шляхтич Гижевский – ввиду того, что секретарь Мартын Броневский с позором бежал от епископского возмездия, – испил от велебного владыки Кирилла полную чашу страданий в отместку за поражение конца лета 1590 года. Как указывалось в жалобе на владыку, преосвященный Кирилл «воспретил допускать до него фельдшера и приказал еще посадить несчастного в тюрьму и морить его холодом и голодом, а по временам истязал его в своем присутствии в течение целых 12 недель».
Фалимичи снова принадлежали луцкой епископии…
Дальнейшая судьба пана Гижевского, к сожалению, неизвестна, однако сдается мне, что мучим был сей мелкий и никчемный шляхтич, которому просто было вот так отрубить руку и потом не пускать для помощи лекаря, вовсе не за давние провины перед епископом рекомого пана секретаря Мартына Броневского, но за нечто тайное, что ни в какие исторические времена, а тем паче в такие смутные, как теперешние, не предавалось свидетельству бумаги. Но ныне, рассуждая о том, я могу только догадываться… Иначе это можно объяснить только невероятными повреждениями епископской несчастной души и усугубляющейся душевной болезнью…
Так языки черного пламени пробивались наружу, на свет Божий…
Жалобу, поданную на него по этому делу, епископ счел не подлежащей разбирательству суда гродского Луцкого из-за своего духовного звания, и, хотя рекомый суд гродский нашел это дело вполне разбойным и подсудным себе, велебный в Бозе Кирилл (но в Бозе ли? Или в некоем ином обуянии духа?) уклонился от ответа за свое злодеяние и «апелляционным порядком» добился того, чтобы дело перенесли в трибунал, где оно благополучно и промыслительно затерялось в превеликом сонме инших бумаг.
Удавшееся предприятие с Фалимичами удостоверило владыку в том, что любой суд гродский можно обойти если не с той, то с другой стороны, напомнив при нужде чиновным то, что забывалось окружающими его все больше и больше: о священном чине своем и по сей оказии естественной принадлежности духовным судам, – иными словами то изъясняя, только митрополит Киевский Михайло Рагоза мог подвергнуть его наказанию. Но с владыкой Киевским недолго было Кириллу договориться вполне полюбовно и взаимовыгодно, – что и толковать о подобной безделице: ведь не без словесного наущения экзарха Кирилла Терлецкого наставлен был рекомый Михайло Рагоза после Онисифора Девочки, обвиненного в двоеженстве, патриархом Иеремией на высшую русскую кафедру – на митрополию Киевскую… И здесь – воистину рука мыла руку.
Велебному Кириллу-епископу пришлось по нраву живать временами в Фалимичах, в замке церковном. О преимуществах фалимичской жизни составитель исторической хроники Луцкой может только догадываться и – молчать. Ибо называние поднебесных духов злобы равнозначно их призыванию, – и се: слышу шорох костяных перепончатых крыл над моею скорбной главой…
Господи, помилуй меня, грешного!..
Со страхом Божиим и с трепетом приступаю аз грешный к живописанию грозного Фалимичского замка, как бы освященного в свою честь самим сатаной и окропленного жертвенной кровью бедолаги пана Гижевского, ибо сдается мне, что был он вроде заколаемой жертвы – во имя полного освобождения епископа от всех чохом десяти заповедей, на исполнении коих и зиждется мир. Увы, невозможно понять – как тогда из-под Стыровой башни, так и сегодня, из тихой кельи запорожского монастырька, когда я снова размышляю над многострадальной и скорбноглавой сей хроникой, – что именно и какие такие невероятные земные дары обрел от искусившего его сатаны злосчастный епископ Кирилл?.. Разве что бессмертия не хватало ему здесь, на земле, где стяжал он обильно все, что только можно стяжать?.. Так что же – что? – получил он взамен за душу свою?..
Такие вопрошания, как правило, подобны звуку пустому, ибо ничего ощутимого не остается от сатанинских даров: золото обращается в глиняные черепки, прекрасные соблазнительные девы оказываются обсопленными зловонными старухами, по которым ползают крупные вши, власть – пустым звуком и клоком дыма, рассеянным порывом ветра…
В древности был один такой человек, который хотел, чтобы имя его никогда не забылось. Долго думал, что же ему сотворить выдающегося, но все благое и славное в будущине требовало таланта, знаний, прилежных трудов, но ничего такого в себе человек тот не находил. А славы ему очень хотелось. И он не нашел ничего лучшего, как сжечь знаменитый храм Артемиды в своем родном городе Эфесе летом 356 года до н. э., как о том повествует Феопомп. И хотя по приговору «всей Азии» имя его – ради бесславия сущего – решено было никогда не произносить вслух, оно все же осталось в веках… Вот ведь ирония какая!.. Вот такой парадокс… Добавим и то, что в храме Артемиды погибла и единственная книга Гераклита, величайшего философа древности, «О природе». Диоген пишет, что философ поместил свое сочинение «в святилище Артемиды, позаботившись (как говорят) написать ее как можно темнее, чтобы доступ к ней имели лишь способные». Погибло и много чего еще из прочих ценностей и изощренных плодов «хитрецов», как именуются по-славянски художники.
Геростратом звала его мать, породившая толикое чудище. Таковым же Геростратом – в наших грядущих веках – останется и рекомый велебный Кирилл Терлецкий вкупе с Ипатием Поцеем, расколовшими Единую Святую и Соборную русскую Церковь.
Остановимся же, замедлим мерность движения в пространствах сей хроники Луцкой, ибо словеса мои легки, аки пух тополиный, и малозначащи, и ущербны в отъятии Духа Святого. Зная о том, что произошло после, мне все тяжелее и тяжелее выводить буквицы на грубой бумаге письмовника моего, составлять их в слова и в речения, связывать их едва уловимыми нитями смыслов, – сердце мое начинает кровоточить, а душа – невероятно томиться. Ибо ведомо уже мне, спустя сорок лет, что произошло после и что только усугубляется в некую дурную бесконечность, раковой опухоли подобную. И породило то давнее непоправимое деяние не только вооруженное противостояние и войну всех против всех, но и волну полемической литературы, составленной с обеих сторон. И что же?.. Ничесоже. Ничто не остановилось, раны духовные не затянулись, а напротив – загноились и зело воссмердели. Ересиархи-отступники уже наследовали «жизнь вечную» к сим временам, но злое дело их, та кость раздора, не токмо их пережило, но продолжает пребывать на нашей земле, все ширясь и ширясь, обильно и ревностно споспешествуемое недавно, в 1632 году только, почившим королем Сигизмундом III и нынешним Владиславом IV, его сыном. Это тот самый старший сын Сигизмунда, который в 1610 году был признан Семибоярщиной русским царем на Москве, и чеканили москали, помутившиеся разумом в те времена, уже и монету «Владислава Жигимонтовича», но царем ему и сам Сагайдачный стать не помог. Однако еще до прошлого 1634 года Владислав наш продолжал по призрачному праву пользоваться титулом великого князя Московского.
Остановимся, любый читальниче, и развернем пергаменты и свитки древних рукописей, дошедших до времени наших из глубины прежних веков, от святых отец и устроителей Церкви, дабы сверить наш сегодняшний день с благими речениями их.
Да замрет до времени свершения зла рекомый Кирилл-епископ.
Что есть слава людская, питаемая тщеславием нашим? Что есть – жизнь? И что – смерть?
Все и вся покрывается глухим и беспросветным забвением, – средние и малые люди, подобные нам, грешные по своему природному естеству, но и раскаивающиеся во грехах, тщащиеся по малым силам своим исполнять заповеди, уставы, законы, наши малые, никому, кроме Бога, неведомые дела, – что мы есть в великих жерновах Божией истории, как не глина, из которой воссоздается по неисповедимому замыслу Сотворившего все нечто огромное, важное, смыслонесущее, венчающее бег и счет общих дней, веков и тысячелетий. Никто не в силах охватить разумом и пониманием Божественный о нас замысел, – и уместны здесь только смирение сугубое и преклонение воли своей – воле Господней: «и да будет во мне воля Твоя…», как сказано было Макарием Великим в молитвенном прошении, – смиряющееся, отдающее малую волю свою в безмерность Воли небесной. Уходят люди в молчании и здешней безвестности, забываемые именами уже ближними правнуками своими, но дело ли в этом? Ведь Господь хранит их по упованию их: «Простите, и дано будет вам».
В бескрайних мережах земной истории – вельми крупная ячея, – и именами своими остаются только великие праведники, поминаемые ежедневно на литургиях по всему христианскому миру и через 300, и через 800, и через 1500 прошедших годов, – их слова, их деяния, их беспримерное смирение пред волей Господней остаются нетленными и неизменными, текучее, смертное, овеществленное время не властно над ними. Учителя Церкви, сотворители святых литургийных чинов и номоканонов – Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоустый – ну кто во вселенной не знает этих имен? А также – созерцатели Божественных тайн и духовного мира, наставники первых монахов, начертавшие такие книги, что читаемы вот уже 1000 лет, – и кто из нынешних сочинителей способен создать таковые? – и пройдет еще 1000 лет с наших дней отступления и падения, и еще 1000 подобных же лет с присущими им бедами, заботами и войной, и все прейдет, все забудется и переменится, но по-прежнему с трепетом «сокровенный сердца человек» будущи́ны будет разгибать скрижали духовные – «Лествицу» преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайской горы, или «Слова подвижнические» преподобного Исаака Сирина, епископа града Ниневии в VIII столетии, блаженного Иоанна Мосха, оставившего в назидание нам «Луг духовный», да и прочих – великих числом – отец наших… Они – эти писатели и созерцатели божественных тайн вкупе с сонмом безвестных святых – суть залог нашей правой и неукоснительной веры, свидетельство, что стоим мы – пусть и не идем, но все же стоим, – на верном пути.
Но мережи истории человеческой как бы бесстрастно уловляют в памятование молвы и прикровенности книжного знания такожде и великих злодеев, а паче же – зачинателей ересей. Вместе со святыми угодниками Божиими и вселенскими учителями остались, как их перевранные отражения, имена Ария и Нестория, Евномия и Пелагия, и многих других, которых не будем поминать нарочито, как Герострата из града Эфеса, и вот недавние, уже московского, русского корня явились – Феодосий Косой да Матвей Башкин. Ну и наши тут пристегнулись, в адову глубину поспешая, горе-епископы Кирилл да Ипатий, – как же, ведь и у нас, в Речи Посполитой, должно быть что-то свое, самобытное… С прежними ересиархами богонравные мужи боролись на Вселенских соборах, а сии что творят? Кто противу них ныне поревнует? Козаки-невегласы?.. Свои соборы, до небес возносящие злосчастную унию славой ложного «восстановления разделенности Церкви» устраивают они, и получают за то от королей почет и ласку, а тот осколок Церкви, что верным православию остался, клеймят отступниками и еретиками. Зло, насеянное щедрой десницей рекомых ересиархов как давнины, так и близких по времени нам, до сих пор дает свои черные плоды на земле. По тонкому наущению сатаны, они, вознесшись в гордыне, в средоточии возрастающей тьмы ослепления, искали земных славы и чести, но обрели по искомому своему бес-честие и бес-славие, себто славу и честь по определению бесовские, навыворот, глумливо отраженные и лишенные благодати. Таковыми и остались они.
Не рассуждали наши владыки о славе земной в святоотеческом толковании, не творили они, будучи по имени токмо монахами, монашеского делания и подвига, не носили под роскошными одеждами святительскими тяжелых вериг, не усмиряли гордыню, но напротив – пестовали ее. Лествичник о том говорит:
«Есть слава от Господа, ибо сказано в Писании: Прославляющие Мя прославлю (1 Цар. 2, 30); и есть слава, происходящая от диавольского коварства, ибо сказано: горе егда добре рекут вам вси человецы (Лук. 6, 26). Явно познаешь первую, когда будешь взирать на славу, как на вредное для тебя, когда всячески будешь от нее отвращаться, и куда бы ни пошел, везде будешь скрывать свое жительство. Вторую же можешь узнать тогда, когда и малое что-либо делаешь для того, чтобы видели тебя люди».
Как сие реченное могло соотнестись с житием велебного Кирилла Терлецкого? Способен ли был луцкий владыка в безвестности и тесноте подвизаться «сам в себе», как говорит преподобный Исаак Сирин, взыскуя христианского совершенства и спасения, ежели широким горлом своим вкушал от сладости земных благ, и даже те малые – по счету большому, конечное же, малые, – притеснения от королевского старосты, что выпали на его долю, при воспоминании ввергали владыку в священный трепет? Да и – скажем же честно – разве для внутреннего ли монашеского делания облекся он в святительские одежды?..
Снова мне приходится с горечью и досадой улыбнуться…
По древним правилам святых отцов наших епископы при избрании должны были представлять свидетельство о своей достойности к высокому этому чину. Афонский монах Иоанн-русин, уроженец сельца Судовая Вишня на землях Червонной Руси, прозванный за то Вишенским, позже обличал владыку Кирилла таковыми словами:
«А за вас кто свидетельствовал? Свидетельствовали о вас румяные червонцы да белые большие талеры, да полуталеры, да орты, да четвертаки, да потройники, что вы давали знатнейшим секретарям и рефендариям, льстецам и тайным шутам его королевского величества, и они свидетельствовали, что вы достойны панствовать и своевольствовать над имениями и селами, принадлежащими к епископским местам… Заверните в бумажки червончики; тому в руку сунете, другому сунете;..мешочки с талерами тому, другому, третьему… кому поважнее;..а писари не гнушаются и потройниками и грошами – берут и дерут: вот ваши ходатаи!»
Безнаказанность и помрачение внутреннего зрака и помысла питали возрастающую уродливо в епископе нечистоту гордыни, но никто, краше преподобного Лествичника не сказал о том, потому я снова к нему обращусь:
«Гордость есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение человеков, матерь осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией, предтеча умоисступления, виновница падений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твердыня бесов, грехов хранилище, причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу, корень хулы.
Начало гордости – корень тщеславия; средина – уничижение ближнего, бесстыдное проповедание своих трудов, самохвальство в сердце, ненависть обличения; а конец – отвержение Божией помощи, упование на свое тщание, бесовский нрав».
Все это доточно воплотилось в судьбе и жизни владыки Кирилла, будто бы некие инфернальные силы распорядились в смертных и исчезающих днях нашей жизни показать наглядно глубокие прозрения преподобного Лествичника: велебный Кирилл по сути отверг Бога, нарушил обеты, совершил иудин грех – против всего русского именем и судьбою народа нашего, – посредством еретичествования и предания Церкви на муки неисцелимого раскола, на злые муки от римского папежа, польских властей и глубокого внутреннего нестроения, усугубленного до предсмертных пределов этой унией; презрел человеков и умоиступился, о чем свидетельствует вся эта «Хроника Луцкая»; пал в бесновании; лицемерил же так, что даже сподвижник его в устроении унии митрополит Киевский Михайло Рагоза называл его в письмах своих к старому князю Острожскому ничтоже сумняшеся «райским змием», или же «коварной лисицей». Этим же лицемерным талантом, думаю я, объясняются и слова обольщенного им патриарха Иеремии о реченном Кирилле, как о «муже разумном, духовном и искусном»…
Ну, думаю я, Кирилл-епископ действительно весьма выделялся на фоне всех остальных наших духовных владык, о которых свидетельствовали все современники, с горечью отмечая «великое грубиянство и недбалость» местного клира.
Таково наказание от Бога нашему поспольству великому за смертные наши грехи, и таковое испытание мы получили недостойной верховной властью духовной.
Все, сказанное Лествичником, буквально до слова исполнилось на епископе Луцком, – я знаю это сегодня, сейчас, когда позади уже как его жизнь, так и моя.
Но кто я, чтобы судить и тем более осуждать Кирилла и прочих? На них есть Суд Божий. И они уже предстоят перед Ним. Просто доколе я нахожусь в храмине моего тела и пока не угас во мне дух мой, скорбит душа моя о народе моем – невегласном, темном, забитом, неписьменном народе, – ставшем игралищем неким в политических резонах текущего дня, сиюминутной политики, потаенного достижения своих целей корыстных, ставшем просто щепкой, брошенной в костер вселенского честолюбия и тщеславия «наместника Христа на земле» – и в горнило бесконечной войны и погибели. Ведь только в краткой моей жизни я был самовидцем войны Наливайко, а до того слышал я о домовой Острожской войне с Кшиштофом Косинским, затем Смутное время в Московии на время прекратило раздоры и споры внутри Речи Посполитой – затевалось королем Сигизмундом знатное дело с несколькими царевичами Димитриями и единой на всех Мариной Мнишек из Сандомира, затем – с королевичем Владиславом. Наши козаки на время отвлеклись от религиозного пыла защиты поруганной святоотеческой веры – водворяли с добыванием корыстей и военных трофеев царевичей Димитриев тех друг за другом, но в 1620 году, когда московские дела завершились, очнулись они – ан все православные иерархи, кто отверг унию прежде, уже и скончались от старости. Хорошо, гетман Сагайдачный перед смертью своей успел надавить на короля и на сейм в Варшаве и силой восстановить иерархию нашу. А после – как воз понесся с горы: Жмайло, Тарас Федорович (Трясило), Павло Бут (иначе Павлюк), Яков Остряница, Дмитро Гуня… И это только крупные восстания, а сколько было таковых мелких, не вышедших за пределы поветов и воеводств? Но что еще ждет нас завтра – кто ответит? Я ничего ведь не знаю, я – невеглас из запорожского монастырька, но душа моя явственно ощущает великую грозу, великую скорбь и погибель – погибель даже не наших русских земель, называемых в Варшаве украи́нными, или всходними кресами, но погибель всей державы нашей любимой, Речи Посполитой, и погибели скорой и безвозвратной. Утешает единое: мне того уже не доведется увидеть.