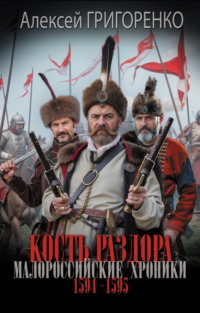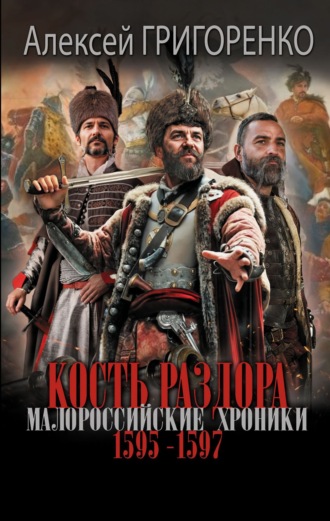
Полная версия
Кость раздора. Малороссийские хроники. 1595-1597 гг
Таким чином епископ Холмский Феодосий и вступил на кафедру Владимирскую и Брестскую.
Но по жалобе нареченного, но так и не состоявшегося епископа Ивана Борзобогатого, король вытребовал епископа-победителя в суд и для того с особливым письмом послал к нему дворянина Ивана Богуфала. Королевский гонец, захватив с собой на всякий случай нескольких гайдуков Ивана Борзобогатого, явился к епископу Феодосию в соборную церковь Владимирскую и предъявил ему к исполнению мандат королевский. Епископ же Феодосий заявил, что на суд королевский он не поедет, и бросился с посохом на слуг несостоявшегося епископа Борзобогатого, велел своим людям бить их и «топтать ногами» прямо в соборной церкви и, наконец, выгнал всех их из замка, сказав решительно: «Если бы здесь был сам Борзобогатый, то я велел бы изрубить его в куски и бросить псам», а королевскому посланцу превелебный Феодосий сказал, устрашая вконец: «Берегись, чтоб и тебе чего-нибудь дивного не приключилось», о чем и донес дворянин королевский октября 14-го дня 1565 года.
Вступив в управление епархией и невзирая на неподчинение королю, который так и не смог усмирить мятежного епископа Феодосия, нареченный владыка послужил к дальнейшему усугублению позора нашего многострадального православного духовенства и великим соблазном для несчастливой паствы своей. С собственным войском, состоящим из слуг и «приятелей», он самолично делал наезды на имения соседних владельцев, производя разбои и грабежи на большой дороге. Об этом свидетельствует жалоба Петра Лысовского и Федора Ставецкого от апреля 26 дня 1569 года:
«…месеца априля третегонадесять дня, в середу, по заходе солнца, ехали есмо з места Володимера до Ляхова, з слугами своими спокойне, не будучи никому ничого винни; то пак дей владыка Володимерский и Берестейский Феодосий, сам особою своею, з многими слугами своими, погонивши нас на доброволне дорозе у гребли Бриновское, не маючи до нас причины никоторое и не бачачи на стан свой духовный, разбойным а рейтарским обычаем на нас ударил, а напервей сам, рукою своею, мене в голову на темени шкодливе зранил, а слугам своим всих дей нас казал мордовать, бить, рубать. И, за початком дей его самого и розказанем, слуги его стали бить нас. Мы дей, спадши с коней у воду, перед ними втекали, а они дей нас, з воды волочачи, били, мордовали и знову дей мя в голову, кроме того зраненя, што сам владыка зранил, вже з воды выволокши, также шкодливе зранили, три раны задали, и брата нашого, Семена Станецкого, шкодливе теж зранили, немало дей ему ран в голове, на твари и по рукам задали; и слугу его Лаврина Краевского збили, а мене дей Федора збили, змордовали, а слугу моего Васенка зранили, и в тот дей час, при том разбои, немало речей (вещей) в нас поотнимали, побрали, з маетности нашее, которую дей есмо на тот час при собе мели, нас злупили…»
Эта история вполне характерна для деятельности епископа Феодосия на кафедре Владимирской. Предо мною лежат еще несколько жалоб на превелебного владыку Феодосия, но все они в общих чертах повторяют друг друга, и потому нет необходимости их приводить в наших хрониках.
Епископ Феодосий дожил до глубокой старости, но в летах долгих своих изнемог и совершенно предался воле своего зятя Михаила Дубницкого, войта Владимирского, коий расточал, яко мог, церковную казну, разорял ему не принадлежавшие имения, расхищал жалованные грамоты и выскабливал фундушевые записи из напрестольного Евангелия. Соборное духовенство, премного от того претерпев, решилось объявить в уряд об этом и начать против него дело судебным порядком, но престарелый епископ нашел в себе достаточно прежней решимости и былой безоглядности на законы Речи Посполитой, запретив им вменять зятю его иск о церковных имениях. При сем памятном событии нескольких священников он по-простому избил своим святительским посохом. При всем этом самовидцы славного его жития отмечают, что дела, подлежащие духовному суду, он решал пристрастно, нарушая как гражданские законы, так и канонические установления.
Но жизненные силы с умножением лет оставляли все же престарелого епископа Владимирского и Брестского. В изнеможении он просил короля Стефана Батория о дозволении передать в управление епископией архимандриту Киево-Печерской обители Мелетию Хребтовичу-Богуринскому, и король листом своим от декабря 23-го дня 1579 года, признавая рекомого архимандрита человеком добродетельным, благочестивым и искусным в духовных делах, повелел передать ему управление епископией Владимирской, оставив, вместе с тем, и архимандритом Киево-Печерского монастыря.
Мелетий Хребтович происходил из древнего благородного рода, взявшего начало в имении Богурин. При Сигизмунде II Августе род Богуринских строил замки, фундовал храмы, водворял города, верой и правдой воевал во всех войнах, которые вела Речь Посполитая, с немалым личным отрядом.
Мелетий Хребтович-Богуринский был избран в сан архимандрита Киево-Печерского монастыря монашествующей братией и утвержден в этом сане королем Генрихом Валуа. Король же Стефан Баторий, по просьбе монахов и по ходатайству сенаторов и послов киевской земли на Торунском сейме, дал Мелетию Богуринскому подтвердительную грамоту от 1576 года, ноября 10-го дня.
Но епископ Владимирский Феодосий, изнемогший от бремени лет своей жизни, умирать все-таки особо не собирался и, отказавшись от административного управления епископией, не желал расставаться с богатыми церковными имениями, и Мелетий Хребтович-Богуринский, по монашескому смирению своему, вынужден был дать письменное свидетельство о том, что все церковные имения этой епископии он отдал Феодосию в пожизненную аренду и что за все – еще не наступившие даже годы – он получил от него арендную плату сполна…
На основании такой находчивой и мудрой политики превелебный Феодосий до самой смерти своей в 1588 году пользовался доходами с этих церковных имений.
В мятежной и непростой жизни сего владыки при углубленном исследовании я смог найти только одно доброе дело, которое, даст Бог, зачтется ему на Небесном Суде и, может быть, хоть отчасти оправдает его недостойную жизнь, – и посему о деле сем я расскажу в нашей хронике.
Незадолго до смерти владыка, с согласия соборного духовенства и по совету князя Василия-Константина Острожского, выделил из церковных имений местечко Озераны и одиннадцать сел, назначив доходы с этих имений на благоустройство соборной церкви Владимирской и на учреждение при ней богадельни и школы для обучения детей. Часть доходов назначена была на содержание двух проповедников для поучения народа и проповедования слова Божия; для преподавания наук в школе положено было иметь двух бакаляров, из коих один должен был учить греческому, а другой славянскому языкам.
Как же сложилась судьба преждепомянутого и пострадавшего от епископа Феодосия шляхтича Ивана Яцковича Борзобогатого-Красенского, вооруженной рукой и пушечным боем лишенного епископии Владимирской?
Судьба сложилась так, как и должно было ей: в утешение от потери и за осадное сидение сына Василия Иван Борзобогатый получил от короля другую епископию, а именно соседнюю, нашу Луцкую и Острожскую, во владение которой он вступил после смерти Марка Жоравницкого, управлявшего оной, как я уже говорил, с 1561-го по 1567 годы, не посвящаясь в духовный сан, и бывшего епископом нареченным. Должно быть, в отказе от монашеского пострига был определенный смысл как для Жоравницкого, так и для заступившего на его место Борзобогатого, ибо, хотя никто из них не соблюдал обетов монашеских, «вся вменяющего в уметы, да Христа приобрящу», однако формальное пострижение в «ангельский чин» подразумевало при всей вольности прошлых нравов хотя бы некоторое сокрытие своих тяжких грехов против нравственности и правды. Посему и Иван Борзобогатый-Красенский, приняв звание нареченного епископа Луцкого и Острожского, подражая своему предшественнику Жоравницкому, долго отказывался от посвящения, несмотря на неоднократные напоминания митрополита Киевского Ионы. Неподчинение нареченного епископа Борзобогатого повлекло за собой целую переписку, закончившуюся только в 1570 году, когда потерявший терпение киевский митрополит послал Борзобогатому неблагословенную грамоту, упрекая его в непослушании Церкви и высшей власти духовной, а также в незаконном пользовании церковными имениями. Вместе с тем митрополит Иона своим окружным посланием объявил о том всему посполитому люду волынской земли и духовенству Луцкой и Острожской епархии. Произошло это в месяце октябре, в день 21-й.
Многострадальному же нашему Ивану Борзобогатому, дабы не потерять окончательно свое вельми хлебное место, пришлось, скрепив сердце и внутренне протестуя противу такого покушения на особистую свободу его, в 1571 году отправляться в стольный град Киев к митрополиту, постригаться в монашество и посвящаться в епископский сан – под именем Ионы, – дабы не забывать верховной власти митрополичьей и носить митрополичье же имя до смерти своей.
Вступив в управление епархией Луцкой уже на полном и законном основании, епископ Иона Борзобогатый-Красенский со своими детьми и родственниками распоряжался церковными имениями луцкими в лучших традициях своих предшественников. Так, имение Жабче с укрепленным замком епископ отдал в приданное за дочерью своему зятю Александру Жоравницкому, старосте луцкому, коего в 1585 году силой выдворил из Жабчего уже превелебный отец наш Терлецкий, – но о том будет рассказано ниже. Сыновья же епископа Ионы Борзобогатого присвоили себе пушки и другое оружие огненного боя из Жабчего замка; ограбили и опустошили церковь в селе Рожищи; в Дубищенском монастыре такожде ограбили церковь – братию разогнали, разломав кельи и дерево употребив на золу, а из железного монастырского клепала велели наковать топоров. Замок Хорлуп, пожалованный епископии Луцкой великим князем литовским Свидригайлом, как я уже поминал прежде, был тоже ограблен. Известный нам уже Василий, страдалец былой осады замка Владимирского, секретарь королевский, присвоил себе пушки и гаковницы из этого замка и развез их по своим имениям. Самое же местечко Хорлуп с селами, ему принадлежащими, епископ Иона променял князьям Радзивиллам на имение Фалимичи, получив от них полторы тысячи золотых в придачу, между тем как Фалимичи не стоили и половины хорлупского имения.
Кроме того, испытывая поистине неутолимую жажду к деньгам и не довольствуясь большими прибылями от церковных имений, епископ Иона по своему произволению налагал подати на луцких священников, и, если последние не могли удовлетворить его корыстолюбия, епископ запрещал богослужения и запечатывал церкви. Так, например, в 1583 году по его приказанию запечатали семь церквей в Луцке.
В числе прочих владений епископу Ионе принадлежал знаменитый своими богатствами Жидичинский монастырь, и епископ пользовался дармовыми благами монастырскими как хотел и как мог: расточал казну монастырскую, разорял имения и отчуждал их меною. Наглость, с которой действовал разбойно епископ Иона Борзобогатый, была такова, что сам король Стефан Баторий повелел князю Василию-Константину Острожскому отобрать этот монастырь у Ионы и отдать в управление более скромному владыке, велебному Феофану Греку, епископу Меглинскому, что князь и исполнил.
Но Иона, как сын своего бурного века, не хотел смириться с подобной обидой, нанесенной ему от имени короля, и со своим сыном Василием не давал покоя епископу Феофану, нанося ему обиды и оскорбления до такой степени, что епископ Феофан не знал даже, проснется ли он утром живой, или уже «узрит Бога на небеси». И наконец, отец и сын Борзобогатые с отрядом вооруженных гайдуков завладели монастырем и снова поселились в обители.
Епископ торжествовал победу над всеми своими врагами, однако Стефан Баторий разгневался уже на Иону не в шутку и приказал князю Александру Пронскому очистить от епископа и рода его Жидичинский монастырь, и князь послал для сего отряд вооруженных людей, но наш бравый епископ не посрамил своего высокого сана и отразил нападение, встретив отряд князя Пронского ружейным залпом. Тогда князь Пронский, воин отважный и опытный, увеличил отряд свой до трехсот конных и пеших рейтаров, с пушками, гаковницами и огнепальным боем иным, взял монастырь сей приступом, изгнал епископа Иону прочь из святых стен монастырских, а также – вероятно, в устрашение и в будущую науку – приказал выкопать кости его невестки и сына и выбросить оные за ограду. Чтобы предотвратить новое покушение со стороны неуемного епископа Луцкого, князь Пронский окопал монастырь рвом, укрепил его стены и оставил в нем вооруженный отряд для обороны. Борзобогатые дела Жидичинского не оставили и пожаловались на князя Пронского в уряд:
«Велебный в Бозе отец Иона Красенский, епископ владыка Луцкий и Острозский, архимандрит Жидичинский, велико и обтяжливе жалуючи на его милость, князя Александра Пронского, старосту Луцкого, стольника великого князства Литовского, тым обычаем: иж дей, тых недавних часов, месяца тогож августа, двадцать шостого дня, в року теперешнем осемдесят третем, с пятницы на суботу, о пятой године в ночь, менованый Александр Пронский, не маючи перед собою боязни Божое, срокгости права посполитого и покою домового, на мене, чоловека духовного, в летех зошлого, спокойного и здоровья вже неспособного… наслал дей моцно кгвалтом на манастырь святого Миколы и двор мой Жидичинский, подстаростего своего Луцкого, Станислава Петровского, а при нем врадников, слуг, бояр, гайдуков и подданых своих с полтораста человек, збройно, з стрельбою розною, великою и малою. Там же дей одни вороты, а другие выламавши острог, уломилися у манастырь и двор мой Жидичинский, слуг моих побили, поранили и што колвек одно на тот час дей было маетности нашое… яко одны поганцы Татарове… выбрали, вылупили и до именья пана старосты Луцкого Ярославич отпровадили, и тым дей три тисечи золотых Польских шкоды нас приправили…»
Июня же 6-го дня 1584 года епископ Иона опять подал жалобу на князя Пронского:
«…з делы, гаковницами, розною стрелбою, на добра его королевское милости речы посполитое, а учтиву выслугу мою, на манастырь светого Миколая, и двор мой Жидичинский, и на иншие дворы и села, то есть: Буремец, Подгайцы, Боголюбое, Рукини, Жабку, Сапогов, Залусть, тое дей от мене кгвалтовне отнявши, споконого держаня оных дворов, сел и всего архимандритства Жидичинского мене выбил, и тым дей мене о пять тысеч золотых шкоды приплавил, и тот дей манастырь и двор мой Жидичинский тепер окопавши, умоцнивши, менованного дей подстаростего своего, там, у дворе Жидичинском, зо всею стрелбою тоюж и о сто человека при нем осадивши, там положил… Тело небожчика игумена Пречистенского, от них же забитого, погребли и, не маючи дей милости христианское, кости тело небожчицы братовое моее, за манастырь прочь выметать казал; и што дей далей чынити там умыслил, не ведаю, толко таковую кривду, безправне и шкоду на вряд доношу…»
Но напрасны были жалобы жалостливые превелебного Ионы. Вскоре перед городскими властями лег лист королевский «под печатью корунною и с подписом руки вельможного пана Яна Замойского, канцлера коронного», в котором король Стефан Баторий объявил епископа Иону Борзобогатого, его сына Василия и внука баннитами за окровавление Жидичинского монастыря, за насильственное изгнание епископа Феофана Грека и за раны, нанесенные его слугам и «приятелям». В 1585 году, вскоре после баннации, этот буйный шляхтич, дерзнувший надеть на себя ризы православного святителя, умер баннитом, то есть человеком, осужденным на изгнание из отечества и лишенным защиты законов в беззаконное время, – добавлю уже от себя.
Что же, смерть эта была вполне поучительна для тех, кто сменил этого и других русских святителей на их кафедрах. Но сказав «поучительна», я, вероятно, поторопился с суждением – ибо чужие ошибки разве кого-то чему доброму научили?.. Нет, но и сама смерть в позоре изгнания и во всеобщем проклятии не научает зрителей посторонних.
Таковой степени осквернения и унавоженности злом была почва Луцкой епископии, на которую пересажен бысть заместивший оного почившего Иону Борзобогатого епископ Кирилл Терлецкий, до того – владыка Пинский и Туровский.
Сидя зимними вечерами под Стыровой замковой башней, я все дивился и не мог охватить во всей полноте Божьи суды над каждым из нас и безмерность милосердия Божия. Ведь судя по тому, что мне только лишь приоткрылось, но вовсе не открылось до адовых самых глубин, наша Церковь, теснимая со всех сторон папежниками и протестантами и изнутри разлагаемая такими вот замечательными владыками, о которых еще совсем немногое я рассказал, должна была уже развалиться как карточный домик, рассыпаться в пыль и исчезнуть с белого света, – но вот чудо: она все еще влачила свое существование, и даже не жалкое, как мне, возможно, и хотелось бы сказать языком. И свидетельствовал о том целый сонм великих людей, знать и ведать которых выпало даже мне, последнему и непотребному в нашем народе и времени Арсенку Осьмачке, бурсаку-пиворезу, – это и замечательный князь наш Василий-Константин Острожский, просветивший русскую землю письмом, премудростью велией и книжным тиснением, стойким защитником народа нашего и православия на сеймах варшавских, это невероятный духом и молитвенным деланием игумен Иов Зализо Дубенский, а ныне Почаевский, это гетман козацкий Петро Конашевич Сагайдачный, возобновивший после погрома в Бресте в 1596 году на богопротивном соединенном «соборе» – спустя 25 лет – православную иерархию в 1620 году, епископы-просветители наши Иов Борецкий, Мелетий Смотрицкий и иншие с ними… Всех не исчислишь, и это вселяет надежду и веру в то, что над всеми нами – Божий промысел, Божья защита и Покров Богоматери. Но и беды много было вокруг, и заливала она черными волнами утлый челн нашей Церкви, – и беда эта все прибывала и наваливалась на наше поспольство, и временами казалось, что уже все – надо сдаться и просто идти ко дну. Или… Или же становиться янычаром: вытравить накрепко из памяти материнские песнопения, вразумления от отца, от дедов, память души и тела таковую, что не надобно слов, – да всю нашу жизнь, как околоплодную жидкость в беременной женщине, вытравить, выдавить и излить, дабы плод, сиречь душа твоя в твоем теле, иссохла и не то чтобы даже погибла, но переродилась в нечто иное – в бесовскую машкáру, – и живительная жалость иссякнет в тебе, сострадание, милосердие, ну, в той мере, в какой дарованы оные тебе Господом, и стать тебе «воином Христовым» навыворот, иезуитом, верным папским рейтаром, и подступно воевать уже не за Христа, не за наше русское замордованное поспольство, но за первенство и преобладание над мироколицей римского первосвященника-мудрагеля…
По всему было заметно, что в Церкви нашей нарождается, зреет и вовсю уже правит правеж свой смута, разброд, ибо честолюбие и сопутствующее оному корыстолюбие наших духовных владык, возглавлявших той порой Церковь, не знали пределов, и никто не мог поручиться, на основании чего и как будет возрастать в гордыне своей и ложной значительности следующий за почившим епископ. При наличии тягостных предчувствий все-таки трудно было предположить, чем за свое честолюбие и возрастание власти станет расплачиваться с миром, во зле пребывающем, по слову отцов, превелебный Кирилл Терлецкий, и какую зловещую роль предстоит сыграть ему на вертепном театре нашей русской истории. Но, ведая ныне о том, я все же забегаю вперед и предупережаю строй совершенных исторических событий и тягостных предзнаменований. Посему обратимся снова к окованному медью сундуку под Стыровой башней, в коем наметано грамот о превелебном отце и отчиме нашем Кирилле под самую крышку, что этот сундук и не закрыть без упора коленом, и поведаем в начале его родовод.
Кирилл сын Семенов Терлецкий, епископ Луцкий и Острожский, происходил из знатного, но небогатого рода западно-русской дворянской фамилии, которой принадлежали родовые имения Тарло (по оному обретено было фамильное прозвище рода), Любохов (прообразовательно наметивший одну из примечательных черт в общем строе характера превелебного Кирилла, а именно женолюбие и премногие прелюбодеяния), Свиная (тут мне сказать просто нечего) и Россохи (такожде название не простое и вполне говорящее в свете предстоящей истории нашей) – все именованные селения располагались в Перемышльском повете.
Дата рождения Кирилла неизвестна. Родился, видимо, в Пинске. В молодости занимал судебную должность, но хорошего образования не получил. Так, к примеру, хоть и предался душой и телом римскому папежу, а латынью так и не спромогся овладеть. Без латыни же какая наука мыслима в свете? Впоследствии принял духовное звание и в 1560-х годах был протопопом в Пинске. После смерти жены принял монашество – в 1572 году, затем был возведен в сан епископа Пинского и Туровского. В Пинске, как рассказывали знающие люди, занимался защитой имущественных прав церкви и увеличением архиерейских доходов.
9 мая 1585 года королевской грамотою епископ Кирилл вступил в управление Луцкой епархией. Совершил этот акт коморник королевский Миколай Рокицкий, предоставив в его власть церкви и монастыри со всем епархиальным духовенством, с церковными людьми и имениями.
Превелебный Кирилл обрел свою новую епископию в самом жалком состоянии, ибо все, что можно было унести, было расхищено епископским родом Борзобогатых. По смерти баннита Ионы, его невестка показала себя настоящей воительницей, дочерью своего бурного века:
«…пани Василевая Борзобогатая Красенская, секретаровая его королевское милости, з сынами своими Констентином и Васильем Красенскими, будучи при смерти владычней взявши дей до рук своих ризницу и з серебром церковным, и уберы епископье, и скрыню с привельями и зыншими многими речами церковными, побрали и собе привласчили… с тое скрыни все привилья перших господарей хрестьянских, королей Польских, великих князей Литовских и Русских и иных князей, панов, фундуши на церкви и на вси имена, до тое церкви соборное належачие, и сребро и книги церковные побрали… А с церкви соборное взял крест золотый великий, роботы велми коштовное везеное, с каменем дорогим, который стоял тисечи золотых, камень великий дорогий из образу Пречистое Светое выняли, и взяли, и до Кгданьска продати отослали, которого шацовано шесть сот таляров, Евангелие, сребром оправное з шмалцом, велми коштовное, на паркгамене писаное, зовомое Катерининское; в нем многие фундуши вписаные. Книги тые побрано: Правила светых отец на паркгамене, Псалтыр в десть, книгу Четью отеческую, книгу Ефрем, книгу Требник малый в полдесть… Замок церковный Хорлуп, надане великого князя Швитригайла, в том замку было дел три отливаных, а две железных, гаковниц двадцать, ручниц пятьдесят и шесть… то пак дей тую всю стрелбу пан Василей Красенский, секретарь, з сыном своим Консентином с того замку побрали до своих имений… C церкви меншое Рожисцкое заложеня Светое Пречистое взяли Евангелие, серебром оправное, и иншие книги и образы все и звон и зо всим спустошили, же жадное речи в той церкви не зоставили. А с церкви манастыря Дубисчкого взяли книг четверы и два звоны больших, а два малых зоставили, и чернецов разогнали, келии их побрали и до Быту поотвозили, где попелы палили; а от тоже церкви, клепало железное взявши, сокеры поковати казали…»
В таком плачевном состоянии нашел свою вдовую после Борзобогатого епископию Луцкую превелебный Кирилл Терлецкий. Конечно, при некотором напряжении воображения можно представить то богатство разнонаправленных чувствований, охватившее его при виде толикого разбойного опустошения «хлебов духовных», отныне по праву принадлежавших токмо ему. И потому, будучи человеком хоть и изнеженным высоким происхождением и обретенным с младых ногтей благополучием своим, но очень деятельным и неуемным, как показала вся его дальнейшая жизнь в Луцкой епископии, владыка Кирилл предпринял ряд решительных мер, дабы вернуть обретенной епархии прежнее великолепие и благочиние, ну и, конечно же, былые богатства церковных имений.
Первым делом в своем благоначинании превелебный Кирилл обвинил соборное луцкое духовенство, только что засвидетельствовавшее как ему, так и гродскому суду, о разорении, причиненном семейством почившего баннита Ионы, в том, что сами соборные панотцы вкупе с Ионой раздавали церковные имения светским лицам, отдавали в аренду, меняли и закладывали во вред Церкви Божией. Соборное духовенство луцкое, попавшее из полымя да в воду, позванное в суд земский и к митрополиту Киевскому, объявило, что покойный Иона никогда не совещался с ними, заключая свои сделки о церковных имениях, и посему они никакого участия в составлении разных актов по отчужденным имениям не принимали и ни к каким записям рук и печатей своих не прикладывали, и посему отвергают обвинения их превелебным Кириллом в растрате именованных сел и местечек.
Зная характер и деятельность почившего епископа Ионы, трудно усомниться в их искренности.
Известны и другие – добрые и благонравные – дела Кирилла Терлецкого, на первых порах снискавшего даже благорасположение старого князя Василия-Константина Острожского. Так, к примеру, в одном из приделов соборной церкви Иоанна Богослова по некоему приказанию короля Стефана Батория было сложено жалованное для реестровых козаков сукно, – должно быть, король рассудил, что надлежащее православным козакам должно находиться в православной же церкви. Епископ Кирилл лишил уряд сего заблуждения, лично явившись в каптуровый суд воеводства Волынского и потребовав немедленного очищения соборной церкви от завалов суконных, которые мешали богослужению.