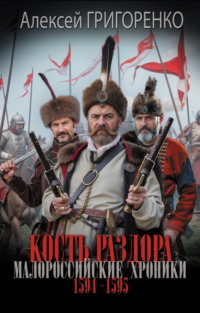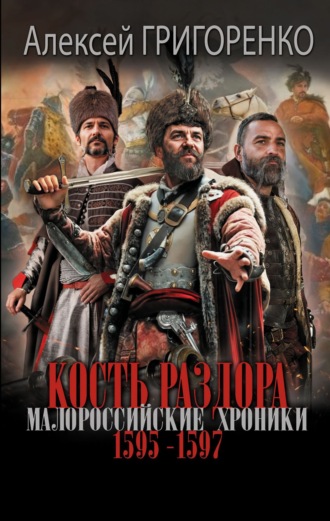
Полная версия
Кость раздора. Малороссийские хроники. 1595-1597 гг
Но одним из первых и главных деяний епископа, в котором явилась вся недюжинность и рельефность характера владыки Луцкого, а также и некая химерность нрава его, усугубившаяся до невероятных размеров впоследствии, было бесповоротное и демонстративно жесткое возвращение в церковное владение укрепленного замком местечка Жабче, отчужденного, как я уже говорил, в виде приданого, или вена, для дочери покойным Ионой Борзобогатым. Вкупе с этим местечком возвращены были епископии и прилегающие села Колодези и Губино – все это было отбито у зятя Борзобогатого Александра Жоравницкого, старостича луцкого, который к этому времени передал имения в аренду своему брату Яну, который, собственно, и пострадал от епископской толикой решительности и непреклонности. В октябре 1586 года Ян Жоравницкий подал жалобу на Кирилла Терлецкого, которую, во избежание досадных упущений, я приведу полностью, ибо таковые свидетельства исторические не должны таиться в безвестности под глухой сенью Стыровой башни города Луцка:
«…пан Ян Жоравницкий, войский Луцкий, велико, обтежливе и плачливе жаловал, сам от себе и именем малжонки[2] своее, панеи Олены Контевны, на его милость, велебного отца Кирила Терлецкого, владыку Луцкого и Острозского:..пак дано ми теперь з дому моего за Блудова знати, иж пан владыка Луцкий с крылошаны своими, забравши себе на помочь великое войска людей, то есть поганцов Тат ар, не ведати если з орды, аболи откуль инуль, и при пиших людей розного народу езных болш пяти сот чоловеков, а при них Угров, Сербов, Волохов, гайдуков, стрельцов з ручницами, и холопства черни з сакерами[3], также болш пятисот человеков, межи которыми не могли болшей у вособу познати, одно пана Друченина Кнегинского, а пана Прокопа Литинкого, а пана Лукаша Малоховского, а Яска Опаринеского, которые над тым войском справцами были, з делы, з гаковницами, с полгаками, с пушкарами и з немалою стрельбою и з розным оружием, войне належачим, пробачивши боязни Божое… наслал моцно кгвалтом оное все войско свое и с тою всею стрелбою, розшиховавши его на гуфы, водле военное справы и поступку, на тое имене мое Жабче, которое войско, облегше тое имене мое, яко який посторонний неприятель, великою моцо, зо всих сторон около, а з делы и з гаковницами в село упровадшися и ку двору моему Жабецкому шанцы и иные потребы, яко до штурму у валках под местами и замками, коли их який неприятель добывает, належачие, поготовавши, а хлопом пешим, черни, дрова, хворост и солому, на примет запалення, готовити велевши и пустивши з шанцов на двор мой Жабецкий стрелбу, до штурму, великим тиском, кгвалтом и моцью, припустили и за тым в двор мой Жабецкий вломилися, и его, яко неприятель, добывши и заставши там братанича моего, пана Александра Жоравницкого, старостича Луцкого, (…) оных всих, одных, яко ми справу дано, позабивали, других побили, поранили и, вломившися до светлицы, оных панен и челядь белую пошарпали и, похватавши никоторые панъны служебные, оных усилством, кгвалтом покгвалтовали, на остаток шаты, одене на паннах поздирали, злупили… А оное, войска, зобраное и кгвалтом насланое, в дворе слуг моих, шляхтичов участивых, яко вся вишей поменило, нехристиянски, нелютостиве, але праве тырански били, мордовали, секли и з оденя их зо всего злупивши, а толко в одных кошулях зоставивши, кийми, а постромками, а пугами били и мордовали, а других и на смерть позабивали и дом мой шляхетский скрывавили, што все маючи по воли своей, всю маетность мою: гроши готовые, цынь, медь, кони, стада, быдла, гумна и вшеляки спряты мои домовые моцно кгвалтом побрали, полупили и оною маетностью, яко здобычею, албо бутынком, делилися… у мене пан владыка Луцкий, через тое войско свое, моцно кгвалтом отнял и мене с тых именей, з поконого держаня, моцно, кгвалтом выбил, и в тых именях моих немалые почты людей, по кулкусот человеков, з розными стрелбами, положил и зоставил, которые, там мешкаючи, немалые кривды, и втиски, и збытки подданным чинят; бъют, мордуют, кгвалтом все, што ся им подобает, берут, грабят и незмерные а незбожные кривды чинят…»
Эта жалоба на велебного Кирилла Терлецкого оказалась перечеркнутой без жалости и на поле листа было приписано чужою рукой: «Тая справа, за листом его королевское милости, есть скасована, уморена и в невец обернена и нигде жадное моцы мети не может. Демьян Букоемский, гродский луцкий писарь».
О штурме того Жабчего и по-другому писано в жалобах, что я для полноты картины и перепишу в этот письмовник: «Дом разграбили по-разбойницки, мужчин побили, а всех найденных здесь женщин клирошане раздели донага и многих изнасиловали…»
Таковыми способами, не совсем подходящими духовному лицу и монаху, епископ Кирилл устанавливал порядок и справедливость в епархии. Впрочем, Кирилл был таков не един.
Наконец, желая обеспечить на будущее неприкосновенность церковных имений и прав, предоставленных православному духовенству, превелебный Кирилл старался о том, чтобы жалованная Сигизмундом III грамота от 23 апреля 1589 года была внесена в гродские Актовые книги для всеобщего сведения. Этой именованной грамотой король – по просьбе митрополита Киевского Онисифора с примечательной фамилией Девочка и всего православного клира – запретил светским сановникам вмешиваться в управление церковными делами и уравнял коликий раз наше духовенство в правах с католическим. Кроме прочего, в грамоте этой указывалось, чтобы по смерти митрополита и епископов церковные имения переходили во власть и управление соборного духовенства – до назначения нового иерарха.
Владыка Луцкий, наводя порядок в разоренной епархии после господства Борзобогатых, обратился также и к великому нашему покровителю русскому Василию-Константину Острожскому с просьбой о защите нашего духовенства от притеснений со стороны владык мира сего – светских сановников. Князь, уважив, конечно же, просьбу новопоставленного владыки, писал к своим старостам в окружном листе 1590 года, 15 июня:
«Мы желаем непременно, и это желание наше должно быть исполняемо всегда и во веки, чтобы с этого времени никто из вас не вступался в чин иерейский, чтобы не судили и не рядили духовных особ и не имели к ним никакого дела. Протопопы, пресвитеры, архимандриты и игумены, дьяконы, калугеры, слуги церковные, просвирницы, слепые, хромые, недугующие и вся нищая братия, также все дела о расторжении браков подлежат епископам, а не вам, светским. Поэтому все означенные лица и все духовные дела мы поручили и отдали во власть и заведывание епископу Луцкому и Острожскому, отцу Кириллу Терлецкому…»
Кто мог представить тогда, какого «райского змия», как позже нарек Кирилла в письмах к тому же князю Острожскому митрополит Киевский Михайло Рагоза, сменивший митрополита Онисифора Девочку на киевской кафедре, пригревает и выкармливает на своей широкой православной груди князь Василий-Константин, и что приуготовил Матери-Церкви сей неуемный и деятельный епископ Кирилл…
Но срок его еще не пришел, и превелебный епископ, чуть позже обвиненный верными сынами Церкви во всех мыслимых и немыслимых грехах – вплоть до чеканки фальшивой монеты и предоставления пристанища у себя ворам и убийцам, вследствие чего из-за страха подвергнуться наказанию и неминуемому извержению из сана, он отступил от святоотеческого обычая и стал зачинщиком и душою немыслимого по дерзости переворота церковного, – пока что благоукрашал и укреплял разоренную епископию, – и рвение его было замечено.
Патриарх Константинопольский Иеремия, по обычаю ходивший за подаянием к сильным государям православным, на обратном пути из Москвы в 1589 году посетил наши земли и получил от короля Сигизмунда III милостивое дозволение заняться устройством православной иерархии в Литве и Польше. Вероятно, дозволение это было дано патриарху не без дальнего умысла: вокруг Сигизмунда весьма плотно сидели советники-иезуиты, а сам он слыл весьма ревностным католиком, можно даже сказать, что и фанатиком, примеряя втайне на свои плечи славные ризы Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского[4], которые каждый знает, чем прославились всего сто лет назад. И таковое дозволение патриарху из Османской империи, с коей Речь Посполитая всегда враждовала, враждует и будет враждовать, да еще и касающееся ненавистных Сигизмунду схизматов, то есть нас с вами, русинов душою и телом, весьма, конечно же, подозрительно, – ну, так и получилось по умыслу королевскому, да только тогда никто не понимал ничего, даже сам князь Острожский обманулся в своих ожиданиях. Ну, так вот что было потом: 6 августа 1589 года епископ Кирилл патриаршей грамотой был возведен в сан экзарха, то есть полномочного представителя константинопольского патриарха на земле юго-западной нашей Руси, предоставившем ему обширную власть над православным духовенством уже не только Луцкой и Острожской епархии, а в целом Руси-Украины. В этой грамоте патриарх Иеремия называет нашего епископа мужем разумным, духовным и искусным и благословляет его «соборне, яко наместника своего, с духовенством во всем советовати, и чин церковный благолепно и всякими благими нравами украшати, а небрегущих, студных и безчинных строителей упоминати и подкрепляти, и властию нашею запрещати, и из достоинства церковного и из чинов их низлагати, ни в чем не супротиву стояще церковному преданию и святых отец правилам, невозбранно».
Трудно переоценить важность этого привилея в развитии последующих событий.
Патриарх Иеремия на Брестском соборе 1589 года постановил, чтобы высшее русское духовенство съезжалось на поместные соборы для рассуждения о духовных делах и церковном благоустройстве. По этому постановлению митрополит Киевский Михайло Рагоза созвал собор в том же Бресте в июне следующего 1590 года. Вот имена иерархов, которые были на нем, – сохраним же оные для памятования тем, кто вскоре заступит место наше на стогнах земли нашей русской: Михаил архиепископ, митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси; Мелетий Хребтович Литаворович Богуринский, прототроний, епископ Владимирский и Брестский, архимандрит Киево-Печерского монастыря; Кирилл Терлецкий, экзарх, епископ Луцкий и Острожский; Леонтий Пелчицкий, епископ Пинский и Туровский; Дионисий Збируйский, епископ Холмский и Белзский; Гедеон Балабан, епископ Львовский, Галицкий и Каменца Подольского.
Собор сей занимался разбором и решением споров и тяжб (например, между Гедеоном Балабаном и епископом Феофаном Греком об обладании все тем же лакомым Жидичинским монастырем), а также рассуждением о средствах к благосостоянию Церкви. Митрополит и епископы, которые присутствовали на том соборе, постановили донести королю о притеснениях и обидах, претерпеваемых духовенством и народом православного исповедания от шляхты и сановников католических, и особо в извещении этом упомянуть о том, что православным не дозволяется праздновать наши праздники по стародавнему греческому закону и запрещают работать в праздники католические. Собор определил от имени всего духовенства просить короля и сенаторов католического исповедания веры, чтобы права и привилегии Православной церкви были сохраняемы в неприкосновенности, – для сего принесения жалобы собор избрал – как достойнейшего – Кирилла Терлецкого, экзарха и епископа Луцкого, и отправил его к королю, вверив ему четыре бланкета с печатями и подписями соборян-иерархов.
Эти чистые бланкеты, подписанные епископами-соборянами, спустя несколько лет были записаны необходимыми непотребными и ложными словесами с соизволением на соединение с Римом под первенством папежа и использованы по Кириллову усмотрению. Как ни прискорбно мне то признавать, но и мне по неразумию моему пришлось руку свою приложить к этому делу, – о том позже я расскажу, – тогда же пребывал я в неведении, а сегодня же знаю доточно. Но дела вспять было уже не повернуть.
Следствием ли исполнения велебным Кириллом возложенной на него миссии, или какими-то другими соображениями уряда Речи Посполитой было то, что после протестации иерархов и соборного требования прекратить религиозные преследования и дать новую силу древним актам и привилегиям православного поспольства началось новое гонение как на народ, так и на Церковь. То есть жалоба эта имела противоположное действие. Но притеснения эти носили до времени частный характер, ибо свершаемы были без видимого участия королевских сановников или самого уряда польского.
Вот некоторые случаи, относящиеся к новым притеснениям, уже после собора, – конечно же, гонения, наступившие вскоре, перехлестнули все мыслимое и затмили эти малые, как оказалось, неприятности, которые я извлек из архивных завалов минувшей эпохи и ныне просто исчислю для будущих русских людей.
Урядник Марка Жоравницкого пан Немецкий, приехав в монастырь Красносельский св. Спаса и увидев нареченного игумена Богдана Шашка, вышедшего ему навстречу из церкви, сказал: «Зачем ты, нецнотливый пес, служишь вечерню, когда владыка не благословил тебя служить ни вечерни, ни обедни?»
Возможно, в сем обвинении была доля истины, ибо наименование игумна «нецнотливым», сиречь нецеломудренным, подразумевало, вероятно, не только голословное оскорбление.
Но затем пан Немецкий ударил игумена в лицо и жестоко избил его, и, вынув саблю из ножен, совсем было собрался зарубить, но игумен «скрылся в церкви», на святость которой пан Немецкий посягнуть не осмелился.
Вскоре и пан Станислав Граевский велел по озорству своему поймать слугам и кучеру священника из Покровского храма, ехавшего спокойно по улице Луцка на телеге. Когда же панотец Григорий был приведен, то озорник пан Граевский, схватив его за волосы, начал ножницами стричь ему плешь. Панотец в толиком страдании пытался вырваться из рук игривца Граевского, но «был избит», причем пан Граевский, грозя ему кортиком, говорил: «Я тебе, попе, и шею утну».
Игумен же Пречистенского Луцкого монастыря панотец Матфей жаловался такоже на некоторое насилие о том, что в его отсутствие луцкий арендарь «Жид Шая, с помощниками своими вошел силою в монастырь, пробрался в келию и кладовую игумена и забрал всю его убогую утварь».
С бедным и отовсюду теснимым иудейском народцем, глубоко и обширно утвердившимся в Луцке, как и в других городах Речи Посполитой, связана еще одна судовая жалоба от 1590 года, состоявшая в том, что Мелетий Хребтович Богуринский, епископ Владимирский и Брестский, архимандрит Киево-Печерского монастыря, со всем собором и духовенством владимирским совершал торжественный крестный ход по Владимиру. Когда же процессия дошла до церкви святителя Николая, которая высилась на так называемой Жидовской улице, то два жида бахурчика (на их наречии то есть «молодые жидки») начали бросать камнями в епископа и прочее духовенство. Никакого погрома, как принято ими самими утверждать во обоснование «бедности племени» своего, разумеется, не было, а духовенство попыталось обратиться к закону: находившийся в то время во Владимире и участвовавший в процессии Феофан Грек, епископ Мглинский, со всем собором духовным церкви Владимирской, подал от имени епископа Мелетия и от себя жалобу в уряд гродский Владимирский. Призванные к ответу жиды «не признались в проступке» (именно проступком наречено было их деяние, но никак не святотатством и не кощунством, – так добавлю я от себя для памяти всем тем, кто пытается навязать моему народу склонность к погромам) и потребовали, чтобы им дозволено было доказать свою невинность присягой. Суд согласился на их требование, «и Жиды были оправданы, присягнув в своей жидовской божнице, что они на владыку и на духовенство камнями и ничем иным не бросали».
Однако из судовых актов, разбираемых мною, видно, что католики в наших землях украинных отличались большой веротерпимостью: они приглашали наших священников совершать церковные обряды, приносили к ним своих детей для крещения, принимали от них Святое причастие, приглашали их совершать обряды венчания и отпевания умерших. Говоря другими словами, католики участвовали во всех церковных таинствах наших, чем и определяется православное исповедание веры. По жалобе католического духовенства, король Стефан Баторий указом от 1579 года, декабря 15-го, вменил в обязанность епископам Луцкому и Владимирскому прекратить всякое вмешательство православного духовенства в церковные дела католиков под угрозой штрафа в 10 тысяч коп грошей литовских.
После же Брестского собора 1590 года преследования православных принимают характер современный, то есть становятся неслыханно дерзкими, жестокими, исполненными глубокого презрения к святыне.
Так в 1590 году, декабря 29-го, ротмистры королевские Яков Потоцкий и Андреян Добрынецкий, с отрядом конных и пеших вооруженных людей, напали на имение князя Острожского, село Крупое. Прежде всего они бросились в церковь, выбили церковные двери, разграбили богослужебную утварь, ограбили алтарь и, выбросив из чаши святое Тело Христово на землю, «топтали Его ногами». Разграбив церковь и надругавшись над святыней, бесстрашные пред Богом ротмистры королевские напали на жителей Крупого, ограбили их и все пограбленное имущество отправили в Луцк, под защиту старосты Александра Семашко.
Имения луцкой епископии тоже подвергались нападениям воинственных шляхтичей. Дворянин и секретарь королевский Мартын Броневский напал с вооруженной толпой на церковное имение Фалимичи, взял приступом замок и завладел церковными и епископскими добрами, о чем «плачливе и обтяжливе» жаловался в уряд гродский епископ Кирилл со всем духовенством соборным в октябре 1590 года.
С этого времени и начинается известная тяжба превелебного Кирилла Терлецкого, как защитника православия и первой в Луцке фигуры, со старостой Александром Семашко, каштеляном Брацлавским, безвозвратно вошедшая в драматическую историю Луцкой епископии и в целом – в историю Руси-Украины.
Тяжба эта, кроме всех своих прочих последствий, имела значение судьбоносное как для самого Кирилла Терлецкого, в ней сломленного и переиначенного, так и для движения всей последующей церковной и светской жизни на наших землях, разодравшихся вскоре унией (а должно ведь по замыслу быть наоборот?..) и священной войной, начало которой я видел в огненных отсветах мятежного предводителя козацкого войска Павла Наливайко в заснеженных полях под Брацлавом. Поэтому я расскажу о недоразумениях между старостой и епископом подробно, в строгости следуя тем судовым актам, по неисповедимому промыслу попавшим мне в руки под Стыровой башней. Да и для дальнейшего уяснения событий записи эти помогут тем любителям мудрости и отечественных преданий, которые, может быть, даже еще и не родились на нашей земле.
Александр Семашко, староста Луцкий и каштелян Брацлавский, был потомком древнего русского православного рода, принявшим католичество для достижения мыслимых благ и власти, дарованной ему от Бога в Речи Посполитой, – он начал преследовать велебного Кирилла со всей ревностью и неуемностью ренегата.
В апреле 1591 года он поставил при входе в верхний Луцкий замок, иначе называемый замком великого князя литовского Любарта, где находится церковь соборная Иоанна Богослова и принадлежащий ей епископский дом, своего привратника с отрядом гайдуков и приказал им брать мыто за вход в церковь с духовенства и поспольства по грошу и по два гроша с каждого.
В 1591 году, апреля дня 20-го, в Страстную Субботу, что предшествует светлому и радостному дню Пасхи Христовой, епископ Кирилл прибыл в Луцк для отправления торжественного праздничного богослужения. Однако в замок епископа впустили только с одним слугой, без священников и прочего духовенства. Потому в Страстную Субботу и в Светлое Воскресенье Христово в соборной церкви богослужения не было. Мыслимо ли такое на белом сем свете?.. Епископ два дня сидел в заключении – не ел и не пил. В Великую субботу Александр Семашко по окончанию заседания в суде, а также в день самого Воскресения Христова, будучи навеселе, проводил время в притворах соборной церкви, где, для своего удовольствия, заводил танцы и иные игры, приказав своим гайдукам стрелять в купол и в крест соборной церкви. Гайдуки, стреляя из ружей на меткость, отбили от креста две цепи, повредили купол и образ св. Иоанна Богослова, написанный на стене.
По просьбе Кирилла Терлецкого явились в замок Луцкий возные[5], для исследования дела. Возный Иван Покощевский представил в уряд гродский донесение следующего содержания:
«В 1591 году, апреля 20 и 21, был я в Луцке, по делу его милости, отца Кирилла Терлецкого, епископа Луцкого и Острожского, у калитки верхнего замка. Здесь я видел, что слуги епископа Кирилла Терлецкого, а также съестные припасы и другие вещи, принадлежавшие епископу, не были пропущены в замок и в двор епископский, и все люди, которые называли себя епископскими, были вытолканы из замка, между тем как все другие лица: князья, паны, слуги, простой народ и даже неверные жиды, свободно входили в замок. Духовенство, то есть священники, дьяконы и пономари с ключами не были допущены в замок, для богослужения; поэтому в Страстную Субботу нельзя было служить ни заутрени, ни вечерни, также и в Светлое Воскресенье ни заутрени, ни обедни не было. Когда священники и прочее духовенство спрашивали привратника и гайдуков, почему их не пускают в церковь и в двор епископский, то привратник и гайдуки отвечали, что они делают это, исполняя волю старосты Александра Семашка, который приказал им, под смертною казнию, не пускать в замок не только духовенства, но и самого епископа. „Вчера, – говорили гайдуки, – за то, что мы пустили владыку в замок, пан староста жестоко избил двух гайдуков, из которых один едва ли останется в живых“. В то же время, священники и все духовенство, также слуги епископские пошли было в замок, но, в моих глазах, они не были пущены, а которые осмелились войти, те были избиты и вытолканы. В продолжение двух дней, то есть в субботу и воскресенье, все духовенство города Луцка и слуги епископские стояли у ворот замка, но ни один из них не было пущен ни в церковь для отправления богослужения, ни к епископу. В воскресенье, ея милость, пани кастелянша Брацлавская, шла к вечерне в костел и, сжалившись над толпою, стоявшею у ворот замка, велела пустить двух священников вместе с возным. Когда вошел я, – говорит возный, – в двор епископский, то нашел отца епископа весьма печальным, а при нем был один только мальчик. И объявил владыка мне, возному, что он два дня хлеба не ел, в субботу и воскресенье, так как ни духовенство, ни слуги не были допущены к нему, что он иззяб от холода и отощал от жажды. Еще с большею горестью объявил мне епископ, что пан староста, держа его в заключении, моря голодом и потешаясь над ним, громко приказал стрельцам и гайдукам своим стрелять из своей комнаты в золоченый крест на церкви Божией. Когда его убеждали не портить креста, то он приказал бить и стрелять в купол и стены церковные. И гайдуки били и стреляли в церковь Божию. И я видел – продолжает возный, – под самым куполом весьма много свежих знаков от ружейных выстрелов, от креста отбиты две цепи, и образ св. Иоанна Богослова поврежден в нескольких местах ружейными выстрелами. Епископ объявил, что пан староста, желая препятствовать всеми способами богослужению, постоянно сторожит у обеих дверей церковных: в одних сидит сам со своими слугами, а другие двери загораживают рекфалами, дудами и другими музыкальными инструментами. И я видел в одном притворе три стула его милости, пана старосты, обитые черною кожею, и несколько скамей, на которых лежали музыкальные инструменты».
С этих пор староста Александр Семашко не давал покоя епископу Кириллу Терлецкому: то он не пропускал в замок Любарта строительных материалов, приготовленных епископом для починки соборной церкви, в которой стены и купол угрожали разрушением; то требовал епископа на суд и присуждал к денежному штрафу под тем предлогом, будто бы он, как нарушитель общественного спокойствия, входил в замок с огнестрельным оружием во время судебных заседаний. Староста даже вмешивался в духовную юрисдикцию епископа, принимал жалобы от священников, подвергнутых Кириллом Терлецким наказаниям за порочную жизнь, и брал их под свою защиту; требуя епископа к себе на суд, он обходился с ним грубо, называл его адвоката «презренным псом русином» и публично в суде уличал его в развратной жизни. Это случилось по поводу жалобы, поданной на Кирилла Терлецкого священником Лавровским, которого Семашко принял под свою защиту. Когда Кирилл Терлецкий, отстаивая свое право юрисдикции над подвластными ему священниками, уличал Лавровского в порочной жизни, то староста пан Александр Семашко заметил, что знает немало грехов и за самим епископом. При сем он шепнул адвокату священника Лавровского: «Скажи судьям, что к владыке приводили развратную женщину (белую голову вшетечницу), и что об этом известно священнику Лавровскому…»
По настоянию старосты, это обвинение было записано в судовые книги, как имевшее место в действительности.