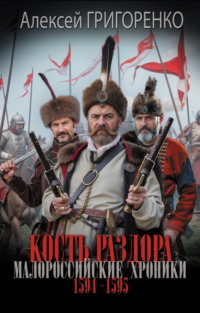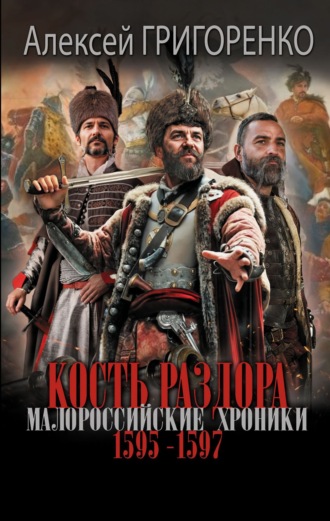
Полная версия
Кость раздора. Малороссийские хроники. 1595-1597 гг
Да, добыча… Это их вековое проклятие… Но и призвание тоже. Много ли заработаешь на нивах? К тому же все земли без исключения принадлежат знати. На земле если и будешь работать на себя самого, то не более нескольких дней в месяц, остальные же дни – на хозяина грунта. И никуда не денешься от того… Потому посполитый люд при первой же возможности бежит на низ и верстается в вольное рыцарство Запорожское.
Но в какой ипостаси в этом воинском предприятии было участвовать козакам? Крепко они с Лободой призадумались о том в Баре. Кем были ныне они? Прошлогодний рейд по Валахии, Чигирин и провозглашение Павла гетманом без согласования с Варшавой и Краковом, последующее возвращение в пограничную Дикому полю Брацлавщину, захват самого Брацлава и разорительное для города сидение в нем, изгнание старосты Струся, уничтожение архива и все прочее, сопряженное со своевольством, насилием и грабежами, – все это поставило козацкую вольницу по сути вне законов Речи Посполитой. Но кары никакой не было им, не было даже и порицания, – так, мутный смыслом универсал с вялым требованием удалиться к Днепру… Сидя в совете в замке Бара, они с Лободой понимали подоплеку этой видимой нерешительности Варшавы: в виду опасности новой большой войны с Блистательной Портой уже было объявлено посполитое рушенье, и поветовая шляхта со своими клевретами и оршаками стягивались под Шаргород, укрепленную столицу рода Замойских, дабы предотвратить переправу через Днестр многочисленной татарской орды к Кучманскому шляху и далее – во владения императора Рудольфа, в Угры. Именно Угры – были знаемой и обычной военной целью османов. Потому и забеспокоился император, рассылая повсюду гонцов, нагруженных казной, подобных Хлопицкому и Лясоте, – городил некий союз против турок. От запорожцев же требовалось не так уж и много: осадить несколько крепостей, погулять по Черному морю, сжечь сотню аулов, вырезать какое-то количество тамошнего народу, дабы турки отвлеклись от задачи, поставленной Амуратом-султаном, и ослабили несколько силу кинжального удара в сердцевину Угорщины.
Поляки тоже в этой надвигающейся навале не оставались в стороне. Да и каким таким образом это можно было помыслить? Посполитое рушенье ранней весны 1595 года возглавляли знаменитые воины Речи Посполитой – коронный гетман Ян Замойский, польный гетман Станислав Жолкевский и граф Стефан Потоцкий. Так странно все было, так зыбко, неверно, ведь с Портой заключен был видимый мир, – и вместе с тем собиралось посполитое рушенье, шляхта вооружала свои оршаки, и лесными и степными дорогами все двигалось к Шаргороду. Скорее всего это – новая войсковая опасность от турок – и препятствовало королю Сигизмунду с панами пресечь козацкое своеволие. Ну а мирный договор с султаном и королем, заключенный недавно, как всегда был с прорехами: козаки выходили в походы на море и шарпали крымские берега, – султан присылал гневные письма в Варшаву, а паны отговаривались тем, что это-де не они, они – только за мир и покой, а вот своевольные козаки не слушают никого и чинят по-своему… Султан требовал укротить козаков – они же подданные Речи Посполитой? Так в чем дело? По моему султанскому слову сразу головы с плеч за толикое ослушание!.. Мямлили что-то паны варшавские знáчные невразумительное, присылали приказы в Крым не ходить и все такое подобное, но козакам было все это нипочем: крымчаки испокон веку были их кровными врагами. Да и орда… Разве орда соблюдала условия мира? Когда желалось ханам в Бахчисарае ясыря, живого товара, звонких венецианских цехинов и генуэзских флоринов, тут же снаряжались чамбулы и выходили в Дикое поле на промысел. А хотелось ясыря и цехинов – всегда.
Вероятно, хан Казы-Гирей не ведал даже о том, что между Портой и Речью Посполитой заключен мир там какой-то… А если и ведал – мало значения тому придавал. Хочется кушать? – На Польшу!.. Вот и весь разговор. Видимость мира, иллюзорность его – мир на словах, а на деле и в жизни – взаимная ненависть и взаимный же промысел друг против друга. Поэтому и стекалось посполитое рушенье, а с ним и части кварцяного коронного войска в сборный табор под Шаргород – не миновать было войны, хотя и прямовали путь свой османы в Угры, только по видимости не затрагивая пределов Речи Посполитой. Но это – вполне умозрительно, а как будет на деле, когда дело дойдет до войны? Кто удержит орду от грабежей и захвата посполитого люда? Потому и не применяли паны Короны к козакам силу до времени за Брацлав, Бар и все прочее, что успели они уже натворить. Объединенные силы собирались для дел большой международной политики, а не для усмирения очередных своевольств. Минет опасность – возьмутся железной рукавицей и за козаков. Да и потом – какова бы не была сборная сила войска и рушенья, без участия и военного присутствия запорожцев война была немыслима. Знáчные паны тоже хорошо это понимали. Все знали, что турецкая навала испокон веку представляла собой тьму тьмущую живой силы – современники никогда не могли доточно исчислить количество турецкого войска, и цифры эти всегда колебались между 100 и 200 тысячами человек.
Через Балканские княжества – Трансильванию, Валахию, Сербскую Краину, через Варну – уже выдвинулись черной грозовой тучей турецкие пехотинцы-янычары, усиленные ополчениями с подвластных Амурату земель, перемежаемые конницей сипахов; впереди шла мобильная татарская конница, разорявшая на своем пути супротивные и сопредельные земли. Крымские хищники уничтожали укрепления, жгли села, осаждали города, разрушали пути подвоза провианта и в целом нагоняли страха на несчастное мирное население, подготавливая благоприятное прохождение основного неисчислимого султанского войска, янычар и сипахов. Текучие, неуловимые конники, сызмальства приученные к особой тактике степного промысла, главной целью которого была поимка живого товара для невольничьих рынков, – они рассыпались в степи как шарики ртути, делясь и делясь бесконечно: орда – на несколько крупных чамбулов, чамбулы – на десятки мелких отрядов, отряды – просто на шайки из нескольких человек, – таким войсковым обычаем они покрывали большие пространства Дикого поля и сопредельных держав, обреченных стать их поживой. Отлавливалось все живое, попадающееся на пути: села разорялись и выжигались, мужчины, если не было возможности удержать их в полоне, уничтожались, из женщин и малых детей сбивались огромные толпы, спутывались вервием и чуть ли не бегом такой полон гнался к крепости Перекопу. Кто не выдерживал этого гона – оставался на поживу птицам степным с перерезанным горлом, те же «счастливцы», что добирались до Гнилого моря, перейдя степной Крым, попадали в Кафу, где продавались на торгу, аки скот. Разная участь была у полонянников из польской укрáины. Одной из бранок[12] именем Роксолана посчастливилось стать любимой женой султана Сулеймана Великолепного и матерью султана Селима II.
Но эта судьба была, конечно же, исключением.
Ныне же, в самом начале 1595 года, пока грозная османская туча только собиралась над европейскими государствами, коронный гетман канцлер Замойский вошел в письменные сношения с Григорием Лободой. Странно, но ни словом в его письмах не поминалось имя Павла Наливайко. Но тому было и некое объяснение: пока козаки сидели в Баре, войско видимо разделилось на две части: наливайковцев и сторонников Григория Лободы. Черная рада, произошедшая в Баре, лишила Павла гетманской булавы и на место гетмана избрали Григория Лободу. Не обошлось и без драки на черной раде – несколько человек из противоборствующих партий были ранены, а двое даже убиты. Но самое печальное заключалось не в том, что Павло потерял булаву, – как давалась она в руки на время, так и отбиралась при случае или по необходимости, еще не закоснело запорожское гетманство, и была в том воля и истина, дух коша, свобода изъявления воли козаками, – печальное было в том, что единое прежде войско разделилось на две части: с Павлом остались недавно прибившиеся с прошедшего года беглецы отовсюду, мало обученные войсковому делу, но с неистовыми желаниями разными – кто-то чаял мести обидчикам, кто-то хотел поквитаться с панами, а кто-то – просто под сурдинку пограбить зажиточные города, богатых мещан и усадьбы панов. На то и война, когда же еще подлататься? – таковым рассуждение было. С Лободой остались собственно низовые козаки, из коша, – грозная сила. Вероятно, поэтому коронный гетман Замойский и писал в том феврале одному только Лободе, приглашая того принять участие в затевающемся предприятии против Блистательной Порты, – наливайковцев Замойский не учитывал вовсе.
Видать, через дозорцев своих ведомо коронному и польному гетманам нечто такое о тех, кто остался вокруг Павла, что проще стало и вовсе не замечать эту толпу. Но в том провидел Павло и некий иезуитский расчет: разделив козаков умозрительно и по чести надвое, легче было бы гетманам Короны справиться позже со вчерашними бунтовцами, когда военная опасность от султана минет, пройдет. Залог же несгинения есть нерушимое единство козаков, – он даже готов подчинить Григорию Лободе и привести под присягу разношерстную свою вольницу, но Лобода отводил глаза в сторону и что-то недоговаривал. Сношения польских гетманов с Лободой сперва ограничивалось увещевательными письмами, теперь же, в виду большой опасности от мусульман, гетманы прямо отправили к нему гонца и просили Лободу поспешить к ним с войском своим на подмогу, обещая за то испросить козакам прощение у короля за их своевольства в Брацлавщине. Павла Наливайко для них будто бы вовсе не существовало. На приглашение панов козаки сперва ответили полным отказом, – и в этом был дух мятежа, которым дышало все в Брацлаве и Баре, но потом некоторая часть их согласилась принять предложение и идти на помощь полякам.
Весной 1595 года польское ополчение под предводительством Яна Замойского, Жолкевского и Потоцкого пересекло границы польских владений, держа путь к Днестру. К 20-му lipiec'у-июлю поляки были у Шаргорода, а в августе-sierpień'е стало известно о переправе через Днестр к Кучманскому шляху огромной крымской орды. Не надеясь на свои силы, гетманы снова сочли уместным просить Лободу о подмоге. Но помощь от него подразумевалась только в охране южных кордонов – Замойский потребовал от козаков следующее: «Так я приказываю, не смейте, козаки, беспокоить Турции. Я вам это запрещаю». Коронный гетман все еще надеялся сохранить хрупкий мир с Блистательной Портой. Лобода сперва был весьма несогласен с таковым ограничением свободы действий его запорожцев, но все же, положившись на случай и на превратности военного времени, со своими людьми вышел из Бара еще 21-го дня лютого зимнего месяца, а 23-го числа уже написал с пути письмо князю Василию-Константину Острожскому, что ему стало известно о том, что молдавский воевода нанес поражение крымскому хану.
Но искомой помощи от походного движения Лободы гетманы так и не получили: дошед до границ Молдавии, козаки посчитали, что случай уже вполне подходящий, и, перейдя границу, принялись опустошать и грабить окрестности города Тягина, что, естественно, вызвало недовольство молдавского господаря, который находился в союзе с поляками и императором против османов. Так еще раз козаки показали неуемное своевольство и норов. Господарь потребовал от коронных гетманов унять своих подданных, и Ян Замойский с силой великою в слове приказа повелел козакам отойти из Молдавии восвояси и не чинить молдаванам вреда. В противном случае грозил поступить с ними, как с неприятелями. Такова и была помощь, полученная гетманами от рекомого Лободы. Козаки отошли из Молдавии и неспешно двинулись по землям Речи Посполитой домой. Хотя, если разобраться, где был их дом? В низовьях Днепра? Под Каневом и Черкассами? На землях полтавских и миргородских? Как бы там ни было, Лобода пришел в городок Овруч, где и оставался до начала 1596 года. Тем временем, пока Ян Замойский осаживал рвение непокорных козаков Лободы, в самой Молдавии случились следующие события. У Аарона, молдавского господаря, в войске был угорский полк, над которым начальствовал некий Розван, сын цыгана и валашки. Сей Розван подступно захватил Аарона с семьей и отослал пленников к семиградскому князю Сигизмунду Баторию. Сам же поживился казной и богатством Аарона, провозгласив Батория отдаленным господарем, самого же себя объявив Баториевым наместником в Молдавии. И Розван, и Сигизмунд Баторий семиградский просили Замойского о помощи против турок. Поляки отказали обоим ввиду внутренней смуты и нестроения. Молдавские же бояре, страшась турок больше всего и не желая повиноваться Розвану, били челом втайне пред гетманами в том, чтобы получить другого господаря для себя – уже от руки польского короля. Замойский вошел в Молдавию и силой посадил в Яссах господарем Иеремию Могилу[13], из местной знати молдавской. Вероятно, и это было тонким дипломатическим ходом Замойского – ввиду турецкой опасности отказать обоим придунайским правителям, чтобы посадить своего ставленника, и уже затем изъявить готовность защищать Молдавию от османов.
Тем временем, окопавшись над Прутом, в урочище Цецоре, основное войско поляков ожидало подхода татарской орды. Гетманы, даже при отсутствии козаков Лободы, готовились сражаться с детьми Магомета не на жизнь, а на смерть. Орда не замедлила, но Замойскому стало известно также о том, что крымцы несколько поспешили в движении к дунайским княжествам и оторвались от основных войск Золотой Порты. В орде находился наместник султана – санджак-бей, сопровождавший крымского хана Казы-Гирея. С этим высокопоставленным турком и вошел в сношения гетман Замойский, снова проявив свои блистательные дипломатические способности. Он поступил так, как еще прежде поступил с козаками: отделил зерна от плевел или осуществив вековой политический принцип разделяй и властвуй, взятый позже на вооружение многими государствами будущего устроения мира. Он предложил санджак-бею отдельно от крымцев вступить с ним в переговоры о мирном разрешении ситуации. Ведомо было Замойскому и о том, что в самом Константинополе в самом разгаре была немалая замятня – так называемая «джелялийская смута» – в анатолийских деревнях появились мятежники. Деревни и местечки, находящиеся в вилайетах Анатолии, Карамане, Сивасе, Мараше, Алеппо, Дамаске, Урфе, Диярбакыре, Эрзуруме, Ване и Мосуле, были разграблены и разорены; некоторые области были опустошены. Даже древняя столица, богоспасаемая Бурса, и та подверглась разгрому, и несколько кварталов ее было выжжено. Знал Замойский и то, что и «племена арабов и туркмен тоже вышли из повиновения». Потому санджак-бей, исходя из интересов Порты, согласился с предложениями Яна Замойского. Так же искусно коронный гетман поступил и с татарами: Казы-Гирей не решался в чужих землях на битву с поляками без поддержки турецкого войска. К тому же близилась осень, а с ней опасность остаться на чужбине без продовольствия и в плотном военном обстоянии. К тому же в татарском обычае было уходить зимовать в Крым, поэтому и здесь Ян Замойский переиграл хана ввиду всех исчисленных обстоятельств.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Делы – легкие пушки.
2
Малженка – жена.
3
Сакеры – топоры.
4
Изабелла I Кастильская, также Изабелла Католи́чка (1451–1504) – королева Кастилии и Леона. Супруга Фердинанда II Арагонского, династический брак с которым положил начало объединению Испании в единое государство. Изабелла была фанатичной католичкой, избравшей своим духовным отцом Торквемаду, энтузиаста инквизиции. С другой стороны, она же учредила академию и университет. 1492 год был эпохальным для правления Изабеллы, в нем совместилось несколько крупнейших событий: взятие Гранады, обозначившее конец Реконкисты, покровительство Колумбу и открытие им Америки, а также изгнание евреев и мавров из Испании.
5
Во́зный (лат. ministerialis) – должностное лицо в судах низшего уровня в Польше и Великом княжестве Литовском. Возный вручал повестки («по́зывы») для явки в суд, а также исполнял обязанности следователя, судебного исполнителя и пристава.
6
Лясота Эрих (ок. 1550–1616) – австрийский дипломат. Родился в Силезии в шляхетской семье. Учился в Лейпцигском и Падуанском университетах. Был наемником в испанском войске (1579–1584), затем служил германскому императору. В 1594 году по поручению императора выехал в Запорожскую Сечь, чтобы пригласить козаков на императорскую службу для участия в войне с турками. Оставил дневник, охватывающий события 1573–1594 годов. Дневник издан на немецком языке в Галле в 1854 и в 1866-м, частично на русском языке в Петербурге в 1873-м. Записки Л. – едва ли не первое документальное свидетельство очевидца как о географии тогдашней Руси-Украины и Запорожской Сечи, так и о чертах общественного быта низовых козаков. Этот отрывок приводится с некоторыми пояснениями автора трехтомной «Истории запорожских козаков», 1892–1897 годов, Дмитрия Эварницкого, откуда он извлечен. Из-за его несомненной ценности привожу текст Л. без изменения, но с некоторыми сокращениями. Источник: Diarium des Erich Lassota von Steblow из г. Будишин (Bautzen) в Саксонии, в публичной библиотеке, называемой по имени основателя «Gersdorffs-Stiftsbibliothek», хранится эта уникальная рукопись.
7
По всей видимости это остров именованием Дынька, любимое место отдохновения сегодняшних насельников Кременчуга.
8
В 1892 году.
9
Русский берег Днепра – правый, Татарский берег – левый; с крепостицы Кременчуга, который замыкал Дикое поле вверх по течению Днепра, левый берег называется уже не Татарским, а Московским.
10
Струсь.
11
Говоря другими словами, император Священной Римской империи повел себя как природный мелкий торгаш. Мало того, что как должное принял столь щедрый подарок от царя Федора Иоанновича, взамен не дав ничего существенного – московиты ожидали заключения политического и военного союза с Империей, который так и не был заключен, – так еще имел смелость, если не сказать – наглость, просить в следующий раз уже не меха присылать, а прямо звонкую монету, а то он, видишь ли, не может выгодно продавать в Европе меха… Обе цитаты – последовательно – взяты из «Историй…» С. Соловьева и Н. Карамзина.
12
Бранка – производное от брать, то есть захваченная в полон при разбойном промысле в сопредельной земле. Роксолана, или Анастасия Лисовская, или Хасеки Султан, 1502–1558, дочь священника – русская бранка, из галицкого городка Рогатин, наложница, а затем любимая жена самого знаменитого османского султана Сулеймана Великолепного, правление которого считается «золотым веком» Османской империи, мать султана Селима II. Занималась большой благотворительностью – построила несколько мечетей, медресе, целый район Аксарай в Стамбуле, носящий ее имя (Хасеки Султан), хосписы, столовые для паломников и даже две огромные общественные бани в столице. Принимала послов и вообще оказывала на политику мужа большое влияние. Кроме султана Селима, родила Сулейману еще четырех сыновей и одну дочь. Она стала героиней многих исторических хроник, составленных дипломатами той эпохи, поэм, романов, пьес, кинофильмов и сегодняшних сериалов. Число проданных рабов в Крыму с 1463-го по 1779 год оценивается в два-три миллиона.
13
Иеремия Могила – господарь Молдавского княжества с августа 1595 по июнь 1606 года, дядя знаменитого киевского митрополита Петра Могилы, отец Раины Могилянки, основательницы нескольких знаменитых украинских монастырей, одной из выдающихся женщин эпохи, дед знаменитого воеводы, князя Иеремии-Михаила Вишневецкого, отличившегося жестокостью и расправами в польско-козацких войнах Богдана Хмельницкого, названного в его честь, и прадед польского короля Михаила Корибута Вишневецкого.