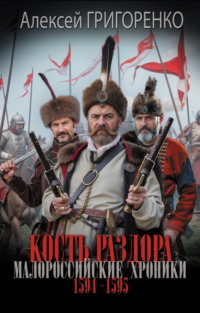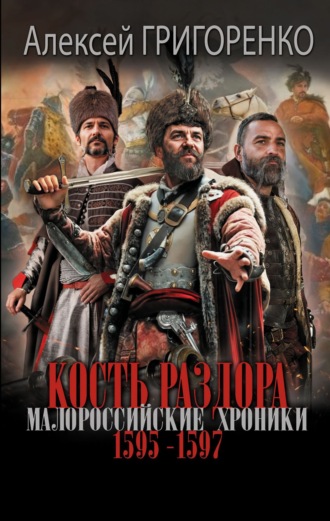
Полная версия
Кость раздора. Малороссийские хроники. 1595-1597 гг
Но могу ли я пребыть равнодушным?..
Тогда же, под Стыровой башней в Верхнем замке Луцка, в зимованье годов мира окрестного 1594–1595-го, я пытался удерживаться что было мочи от бездны осуждения, в которую я безвозвратно соскальзывал, и заключал ум свой в речение апостола Павла, зная, что, осуждая недостоинство превелебного епископа Луцкого, я грех сотворяю и беру его недостоинство на свою выю, на свои рамена:
«Ты же почто осуждаеши брата твоего, или ты что уничижаеши брата твоего? Вси бо предстанем судищу Христову. Писано бо есть: живу Аз, глаголет Господь, яко Мне поклонится всяко колено, и всяк язык исповестся Богови. Темже убо кийждо нас о себе слово даст Богу. Не ктому убо друг друга осуждаем, но сие паче судите, еже не полагати претыкания брату или соблазна».
И хранил я по завету сему неосуждение (или же токмо видимость онаго) до той поры, пока не разыскал в недавних совсем бумагах жалобу пана Адама Закревского на епископа Кирилла нашего о грабеже и изнасиловании девицы Палажки, и дальнейшие судовые прения по этому делу, вполне невероятному для православного иерарха. Сгорбившись над сими листами, я понял, что душа моя неминуемо пропадет за грех осуждения, ибо слова апостола были тотчас забыты мной, когда я прочел начальные строки этой истории.
«Року 1594, месяца февраля, 2 дня.
Пришедше на вряд кгродский Володимерский, до мене Федора Загоровского, подстаростего Володимерского, служебник его милости, пана Яна Тиминского, на йме Адам Закревский, оповедал и барзо обтежливе жаловал на его милость, отца Кирила Терлецкого, владыку Луцкого и Острозского, в тые слова: (…) был посланый до его милости, пана Вацлава Подорецкого, до Копылова, от его милости, пана моего (…) пан Подорецкий, его милости пану моему певную суму пенезей винен был зостал (…) взявши от его милости тую сум пенезей, в торбе, печатю его милости запечатованою, и назад с тыми пенезьми и з иншими справами до его милости, пана моего, ехал и дня вчорашнего (…) в вечор позно трафило ми се зступить ночевать дойменя его милости, впрод реченого отца владыки Луцкого, Фалимичь; то тогды его милость, выше помененый отец Кирила Терлецкий, владыка Луцкий и Острозский, препомнивше боязни Божое и срокгости права посполитого и не маючи до его милости, пана моего, и до мене, служебника его милости, жадное потребы, сам особою своею и с слугами своими, которые его милость сам лепей знает, имена и прозвиска их ведает, нашедши моцно на господу мою, пяный будучи, могло быть годин пять в ночь, на дом подданого Фалимицкого Ювка Петрашеняти, мя самого зельжил, и зсоромотил, и зшарпал; мало на том маючи, ле есче пограбил, побрал и до двора своего Фалимицкого отпровадил, то есть меновите: торбу з сумою пенезей запечатованую, которую его милость, пан Подорецкий, его милости, пану моему, через мене, слугу его милости, послал, коня шерсю морозоватого, который коштовал золотых два Польских, хомут, который коштовал грошей дванадцать Литовских, каптар, который коштовал грошей десеть Польских, дуга, которая коштовала два гроши Польских, ручница короткая, которая коштовала три таляри, шаблю, за которую дал был копу грошей Литовских, шапку, лисы подшитую, которая мне коштовала два таляры, коц, за которыйем дал таляр, што то все пограбил и побрал и до двора своего звыш менованого Фалимицкого отпровадил. И девку дей теж уцтивую, швачку ее милости, панее моее, найме Полажку (…), там же в Фалимичах, з тоей господы моее, взял (…) напрод препомневши боязни Божое, так теж и срокгости права посполитого, не паметаючи на стан духовный епископский, учинив ей кгвалт и мордерство еи паненству, яко уцтовой девце, а учинивши ей тот кгвалт и мордерство, и всадил еи до погреба и то все, што при собе мела на тот час, розсказал отняти, то есть меновите: в венку десеть чирвоных золотых, пласчь мухояровый чорный, лисы подшитый, который коштовал дванадцать золотых, шапку аксамитную, которая коштовала две копе грошей Литовских, то все пограбил и побрал и до схованя своего отдал. А она неборачка, будучи яко уцтивая девка, час обачивши, с тое пивницы утекла и пришла тут до Володимера (…). То теды тот Адам Закревский, отдавши тую протестацию на вряд кгродский Володимерский, просил мене о придане на огледане того кгвалту и мордерства тое уцтовое девки…»
Снаряженные для расследования этого необычного дела возные владимирские пан Михайло Голуб Сердятицкий и пан Карп Кобыленский на следующий день, 3 февраля, свидетельствовали таковыми словами:
«…И кгдысмы се оного кгвалту огледали, видели есмо на ней кошулю крывавую. И оповедала перед нами возными тая то девка, иж дей дня вчорашнего, зо вторка на середу, ехала есми на пудводци, от ее милости паней Подорецкой с Копылова, до именя пана своего до Шклиня; и колим ся спознила, тедым дей ступил на ночь до именя владыки Луцкого Фалимичь подданого его Ювка Петрашеняти. И коли дей вже была в ночь година або и пять, то пак дей пришедши до господы моей владыка Луцкий Кирило Терлецкий, пяный, сам особою своею и слугами своими, мене ис собою до двора Хвалимицкого вести казал, а потом, казавши слугам своим выступити и запершесе зо мною в коморе, мене уцтивую девку зкгвалтил и змордовал. А потом, закликавши слуг, казал мене обобрать… И потом дей мене казав до погреба вкинути, из которого есми, обачивши час, тут до Володимера ледве втекла. Што мы возные пытали есмо ее, еслибы ся ей тот кгвалт правдиве деяв, а еслибы не оная прирожоная кровь оных знаков на ней была… Теды тая девка Палажка под присягою поведила, иж дей той знак кгвалту и мордерства моего от власное самое особы владыки Луцкого, Кирила Терлецкого, мне ся стал, што тая девка нами возными отсветчила тот кгвалт свой…»
Блудный бес, репьем прицепившийся к удам велебного Кирилла-епископа, разумеется, требовал полного оправдания перед урядом гродским, – и вот, вняв бесовским увещеваниям, фалимичский герой, отложив до срока победы свои церковные замыслы и дела и облачившись в теплую богатую шубу, дабы не дай Бог не застудиться, отправился на поезде санном на другой же день из любимого Фалимичского замка «сражаться за правду» и отстаивать свое поруганное так нечестиво достоинство.
Да и что говорить: слишком малозначащи были возводимые на епископа обвинения от каких-то мелких людишек – слуга какого-то пана, швачка-швея непотребная, чье имя он сразу уже и позабыл за ненадобностью, – ему ли, столь искушенному в кознях и замыслах таковых, которые через неполных два года примут размер вселенского пожара и поколеблют тысячелетние устои европейского бытия, – что и произошло скоро с унией, – ему ли, реченному велебному иерарху, экзарху и прочее Церкви русской, трепетать было от каких-то панов-пачкунов Яна Циминского и служки его Адама Закревского?.. И разве «кошуля крывавая», которой тыкали в носы возных свидетели гвалта, изнасилования и мордобоя с последующим ограблением и заточением в погреб девки-швеи, разве это может служить каким-то существенным доказательством произведенного с Палажкой насилия?.. Ничуть! Эти люди – никто. А он – князь Церкви, и, если не считать Рагозу, – первый по чести в кресах восточных Речи Посполитой. Наученный беспокойной жизнью своей, велебный епископ знал, какими способами бороться с супротивными восстающими на него и как их побеждать. В документе, который я привожу ниже, кроме всего прочего любопытны и те словеса, которыми без тени сомнения в досточтимом употреблении их, характеризует самого себя наш смиренный епископ Кирилл, без ужимок, без стеснения и обиняков называясь «человеком духовным, цнотливым, добрым, спокойным…». Верно, это вовсе и не он буйствовал в Фалимичах три дня назад? И снова его незаслуженно и грязно поносят, обливая помоями, – «О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» – да как смеете вы напраслину на меня возводить?!. Верно, подобное нечто кипело в душе у Кирилла, что и апостол Павел в укоре уряду гродскому сгодился для праведного обличения. Впрочем, вернемся же под дубовые двери канцелярии Федора Загоровского, подстаростого ладимирского, и, будто бы невидимо притаившись, прислушаемся к «плачливому и жалостному» оповеданью епископа, оскорбленного столь недостойными его сана обвинениями, и по правде размыслим: сему ли великому человеку не победить мелких канцелярских червей вкупе со своими злосчастными обвинителями?..
«Року 1594, месяца февраля, 4 дня
На вряде господарском Володимерском, передо мною Федором Загоровским, подстаростим Володимерским, его милость, в Бозе велебный отец Кирило Терлецкий, епископ Луцкий и Острозский, жалосне оповедал на пана Яна Циминского тыми словами: иж дей он, запомневши Бога и повинности шляхетское, взявши противко мене (…), поеднавшисе со мною под покрытем приязни (…), а дня оногдашего, яко мя ведомость дошла, на мене, человека духовнаго, цнотливого, доброго, спокойного, непристойне фалшиве змысливши, а шинкара своего з Шклиня Адама, который ся менить быти Закревским, и ниякусь невесту Палажку, жону Лучки Микитича, подданого своего Шклинского, собе в потвари подобную, людей нецнотливых, станови моему неровных, не маючи боязни Божее в сердцу, а ни встыду в очах, на помочь потвари своее направивши и намовивши, внес протестацию до книг тутошних, так гродских якои и местских Володимерских, о ниякийсь грабеж пенезей и иных речей у того Адама и о якийсь гвалт тое невесты, называюче ее девкою, якобы через мене учиненый, войменю моем Фалимичох, ведаючи, жем там на тот час был, а то, что не кохаючися в учтивом своим, абы ме в моим тым ошкалевал. Чим мене доброе славы, человека невинного, яко неприятель и драйца почтивости моее, фалшиве а несправедливе, яко ся доброму не годило, спотварил, што яко теперь так и на потом завжды готов я буду ясно сказати. Тую простестацию мою до книг доношу, просечи, абы принята и записана была».
Завершая сказание о сей судовой справе супротив велебного отчима нашего Кирилла Терлецкого, следует упомянуть также о том, что судебные препирательства о произведенном им насилии и разбое затянулись на долгие и долгие годы, вплоть до начала столетия нового, и закончились только в 1603 году в связи со смертью обесчещенной им некогда «девки Палажки», несчастливо попавшей в ту злосчастную ночь под разудалую десницу епископа. Дело наконец-то закрыли, и гродские судьи оправдали Кирилла тем, что был он «очень пьян»…
К середине лета того же веселого 1594 года наш епископ вполне уже успел оправиться от «оскорблений» Палажки и Адама Закревского и от зимних позывов в суд, – и впереди его ждали новые подвиги такого же рода. И вот в уряд гродский поступают новые жалобы на его залихватство и велию неутомимость все того же привычного рода: о насилиях, отчуждениях в свою пользу имущества и вооруженных наездах, – все, уже набившее сущую оскомину судьям и церковному люду.
На этот раз без особых на то причин (впрочем, обозначение причинно-следственных связей в деяниях епископа Кирилла – особенно сложный вопрос. Разве были какие-либо причины к зимним грабежам и «гвалту» Палажки и Адама Закревского?.. Захотелось хмельному владыке размяться – пожалуйте в Фалимичский замок повеселиться) превелебный Кирилл насильственным образом привласнил себе имущество умершей жены шляхтича Обуховича. Обиженный вдовец Обухович напрасно жаловался в уряд гродский, ибо и этот иск, как и многие предыдущие, был благополучно и мирно спущен в подземное вместилище под Стырову башню канцелярским писарчуком и буркграбим наместником Юрием Кошиковским, и здесь же и позабыт до той поры, пока я его не извлек на свет Божий.
Суть нового дела в проявлении своем была привычна и надоедлива, как однообразное жужжание мухи: 30 июля 1594 года земляне господарские Смыковские вкупе с господиней своей шляхетной пани Богдановой Смыковской преправили в уряд гродский жалобу в том, что превелебный Кирилл, лично (тут я с усмешкой вообразил, как велебный в Бозе владыка размахивает козацкой домахой, сидя в бордовой оксамитовой рясе по-женски бочком на кобыле, и призывает оршак свой к отважной битве «за торжество правды» в Луцкой епископии) напал на земли Смыковские с отрядом «приятелей, слуг, бояр и гайдуков» – всего по счету было двести разбойников, конных и пеших, вооруженных гаковницами, полгаками и ручницами, не считая домах, пик и ножей. Напав таким образом и выгнав законных владельцев Смыкова, то есть помянутую пани Богданову Смыковскую, епископ Кирилл распахал межи, употребив для того сто плугов, «и завладел землями села Смыкова».
Похоже, что и это преступление епископа Кирилла, будущего вдохновителя и творца на нашей земле злосчастной унии, тоже осталось не отомщенным законным порядком, ибо никаких сведений о том в Актовых книгах гродского уряда я не обрел.
Ну а о такой досадной мелочи, как жалоба священника Саввы Фалицкого на Кирилла, можно было бы и вовсе умолчать. Всего-навсего посажен был преосвященным в тюрьму с женою его и детьми, где Кирилл морил их «голодом и холодом шестнадцать недель, а все их имущество взял на себя». Знать, вины Фалицкого были таковы, потому жалоба пострадавшего и вовсе не рассматривалась.
А вскоре же началось сегодняшнее новое время, в коем и аз грешный, когдатошний бурсак-пиворез, о пиве за письменной справой забывший, Арсенко Осьмачка, козацкий сын, уроженец хутора Клямка на Полтавщине, сижу ныне под Луцкой Стыровой вежей, в оповеданье своем не видя Божьего света, – и в сем времени новом приведу на остаток последовавшее распоряжение короля Сигизмунда славетного нашего третьего счетом о том, что все судебные иски, возбужденные недостойными доброго имени недоброжелателями мужей сих велебных и государственных, епископов Кирилла Терлецкого и Ипатия Поцея, «отправленных (в Рим) по государственному делу», должны быть приостановлены. Прибавим же от себя: навсегда.
Казалось, что и сама природа в тот год противоречила неправедным человеческим устремлениям. Я вспомнил о том спустя тридцать лет, когда попала мне древняя рукопись тех времен, о которых ныне пишу, называемая «Дневником новгородского подсудка Феодора Евлашевского», который подсудок рекомый вел скурпулезно с 1564-го по 1604 год.
«Року 1594 мая 8, в пяток, припала хмара сродзе зимна, спустила снег великий и лежал три дни; померзло от той хмары и зимна и ветру гвалтовного сила людей, по трою видей веспол, а не могли себе помочи. Птатства по гнездах самем видел бардзо веле поздыханых; страх был и под дахом седяче».
С тем же и остаемся и мы с тобой, любый читальниче будущи́ны, до сроков новых свершений на землях волынских.
Хроника Эриха Лясоты[6]о путешествии в Запорожскую Сечь с императорским золотом и дипломатические ухищрения там, 1594
«1594. 26 января. Прага. Гофмейстер и оберкамергер Е. И. В. Вольф Румпф потребовал меня и объявил, что Е. И. Величество всемилостивейше постановил послать меня с поручением по службе; что поэтому я должен явиться к тайному советнику, г. фон Горенштейну, от которого я узнаю в подробности, куда я должен отправиться и в чем будет заключаться мое поручение.
27 января. Явился к господину фон Горенштейну, который объявил мне, что низовые или запорожские козаки, пребывающие на островах реки Борисфена, по-польски называемой Днепр, изъявили через одного из своей среды, Станислава Хлопицкого, желание поступить на службу к Е. И. Величеству и предложили стать на перепутии татарам и всеми силами удерживать их, так как им известно, что татары сильно вооружаются для выступления в поход и намерены внизу, при устье Борисфена в Черное море, переправиться через эту реку. Ввиду этого предложения Е. И. Величество решил оказать им почет посылкою знамени и известной суммы денег и вознамерился поручение это возложить на меня, присоединив ко мне в качестве товарища Якова Генкеля, которому те местности хорошо известны. Я ответил, что считаю своим долгом повиноваться Е. И. Величеству и охотно предприму эту поездку, но так как это путешествие не безопасно и я легко могу попасть в плен или подвергнуться другим неприятностям, то я покорнейше прошу Е. И. Величество обеспечить мне свое покровительство в случае несчастья. Г. фон Горнштейн обязался доложить эту просьбу Е. И. Величеству, который всемилостивейше утвердил ее и приказал включить в мою инструкцию. (…)
7 февраля. Станислав Хлопицкий и еврей Моисей в моем присутствии принесли присягу на верность Е. И. В. перед г. г. Варфоломеем Пецценом и Даниилом Принценом.
10 февраля. Хлопицкий и Моисей выехали из Праги и повезли с собою знамя. (…)
20 февраля. Я и Яков Генкель принесли присягу Е. И. Величеству относительно нашей поездки и поручения в квартире Пеццена, в присутствии его и секретаря Иеронима Арконата.
22 февраля. Получил от придворного казначея г. Ганса Ритмана 8000 червонцев золотом, для уплаты в качестве жалованья запорожскому войску от Е. И. Величества (…)».
Из дневника видно, что Лясота с того времени, когда въехал в пределы Волыни, старается направлять путь по проселочным дорогам, избегая замков, местечек и городов, которые остаются вправо или влево в некотором расстоянии от пути, по которому он следовал. Такое поведение Лясоты объясняется его нежеланием столкнуться с польскими властями и объяснять им цель своего путешествия, достижению которой они могли воспротивиться. Польный гетман Станислав Жолкевский узнал о проезде Лясоты в то время, когда тот уже достиг Прилук, и с того времени стал следить за имперскими послами, усиленно добиваясь у коронного гетмана Замойского инструкции о том, как ему следует поступить с ними. Вот относящиеся к этому предмету отрывки из писем Жолкевского к Замойскому:
«Извещаю вашу милость, что Хлопицкий, которого покойный король приказал было арестовать, проезжал недавно через Прилуку; с ним ехали немцы, послы императора к козакам – направлялись они на Низ (в Запорожье). Остановившись в Прилуке, он рассылал письма к козакам, приглашая их на службу императора… Благоволите объявить мне, как поступить в данном случае».
В следующем письме через три дня, гетман пишет:
«Я писал вашей милости, что Хлопицкий проехал из Прилуки на Низ, но теперь я узнал из письма князя Булыги (подстаросты Белоцерковского), что он передвинулся пока еще не далеко; благоволите сообщить мне Ваше мнение и усиленно прошу дайте мне инструкции, как поступать в этом деле».
Три недели спустя Жолкевский пишет вновь:
«Хлопицкий с немцами несколько дней провел в Розволоже, сюда приезжали к нему два козака из Низа: Ручка и Тихно; в Белой Церкви их встретил мой козак, которого я посылал в Черкассы; он знаком с ними и они сообщили ему, что отправляются к Хлопицкому для переговоров… Письмо вашей милости и другое от себя я отправлю к Хлопицкому, но сомневаюсь, будут ли они иметь на него влияние. Полагаю, что его следует арестовать, но думаю, что это следует сделать хитростью, поручивши кому-либо заманить его в засаду и захватить на дороге. Силою трудно будет сладить, ибо войско не собрано, находится же он в местности, в которой дело не обойдется без сопротивления и притом довольно далеко – в 19 милях отсюда» (Listy Zolkiewskiego – Krakow. 1868. С. 45, 46, 49, 50).
Лясота продолжает свое подробное описание пути по Днепру – путь до Днепра и пребывание в Киеве с интереснейшими описаниями города и киевских достопримечательностей мы для краткости опустили.
«…до старой татарской мечети, стоящей на холме на правом берегу ½ мили; до Кременчуга, старого земляного замка или городища на левой стороне ½ мили. Тут мы сошли на берег и осмотрели местность; отсюда до реки Псла, которая также впадает слева в Днепр и выходит из Московии, 1 миля; провели ночь немного ниже на острове[7] близ правого берега.
3 июня. До одного острова 4 с половиной мили. Здесь встретили московского посла, Василия Никифоровича, отправленного великим князем также к запорожскому войску с подарками и спустившегося вниз по Пслу; его сопровождал отряд козаков; мы свиделись после обеда и он дал мне понять, что его господин склонен оказать помощь императору, если увидит, что война продолжится, а также что он разрешает запорожским козакам, которых держал до того времени в своей службе, поступить в распоряжение упомянутого императорского величества, но что тем не менее он и впредь как прежде будет сноситься с ними, с почетом и подарками. Окончив переговоры, мы воротились к лодкам и отправились дальше, с того времени мы оставались вместе пока не приехали в лагерь запорожцев; в тот же день достигли того места, где с левой стороны вливается в Днепр река Ворскла, текущая из Московии (½ мили); оттуда до реки Орели, также плывущей из Московии и слева впадающей в Днепр, 3 мили. Отсюда до острова, лежащего против левого берега 4 мили; здесь обедали. После обеда отправились дальше, но вследcтвие разыгравшейся бури с сильным ветром, дождем и громом, пристали к острову против левого берега не вдалеке от того места, где Самара, по выходе из татарских степей, впадает слева в Днепр, и там провели ночь (1 миля). Отсюда по левую сторону в настоящее время простирается Татария; в старину их кочевья шли и по правую сторону, но с тех пор, как козаки вооружились, татары оставили правый берег.
5 июня. До острова близ порогов, называемого Княжим островом (1 миля). Здесь ночевали, не решаясь плыть дальше по причине непогоды. Nota. Пороги есть водовороты и скалистые места; так как Днепр пролегает дальше среди камней и скал, лежащих частью под водою, частью на ее уровне; поэтому плавание здесь чрезвычайно oпаcнo, особенно во время низкой воды; люди должны в опасных местах выходить, и одни удерживают судно длинными канатами, другие опускаются в воду, подымают судно над острыми камнями и осторожно спускают его в воду. При этом те, которые удерживают барку канатами, должны все внимание обращать на стоящих в воде и только по их команде натягивать и отпускать вершку, чтобы судно не натолкнуть на камень, ибо в таком случае оно немедленно гибнет. Таких мест двенадцать; если же причислить к ним еще одно, Воронову забору, то будет тринадцать, на протяжении семи миль… [В настоящее время[8] всех порогов насчитывается девять и несколько забор.] Июня 6-го дня мы пустились через пороги и до обеда миновали первые шесть порогов; близ первого, называемого Кодак, мы вышли на правый берег, у второго, Сурского, высадились на остров, лежащий у правого берега, при впадении в Днепр речки Суры; у третьего, Лоханского, также сходили на правый берег, и четвертый, называемый Стрельчим [теперь забора Стрельчатая, или Стрежичья], проехали; у пятого, называемого Звонец, мы высадились на правый берег у подножия высокой скалы. Шестой порог, Княгинин [теперь забора Княгинина, или Тягинская], мы оставили вправо, объехавши его с левой стороны, и затем обедали ниже на Княгинином острове. После обеда прошли через седьмой порог, Ненасытец, близ которого должны были сойти на левый татарский[9] берег, и долго замедлили, так как это самый большой и опасный из порогов. Место это опасно по причине татар, которые чаще всего производят здесь нападения; еще около трех недель перед тем татары напали на двенадцать городовых козаков, которые хотели спуститься вниз, и перебили их. Поэтому мы поставили на горе стражу, для наблюдения, которая приметила вдали четырех татар и дала нам знать; мы тотчас отрядили до двадцати человек из своей свиты в погоню за ними, сами же со всеми остальными держались наготове и следили, не понадобится ли им подкрепление. Но татары, заметив, что мы сильны и держимся настороже, не стали ожидать нас, а скрылись и исчезли. Пройдя этот порог, мы провели ночь на близлежащем островке [надо думать, на так называемом Песчаном острове, у левого берега Днепра]. 7 июня мы прошли восьмой порог, Воронову забору; здесь один из наших байдаков, на котором находились Андрей Затурский, Ян Ганнибал и некто Осцик, наткнулся на камень и потонул; сами они были спасены маленькими лодочками, называемыми здесь подиздками, но все их вещи погибли. [Если считать только двенадцать порогов, Воронова забора не считается в их числе, а почитается только опасным местом.] У девятого порога, Вовнига, мы сами сошли на берег и снесли свои вещи. Потом мы прошли десятый порог, Будило, а за ним пристали к левому татарскому берегу; там обедали. Здесь в настоящее время находится самая обычная и известная из татарских переправ, простирающаяся за остров Таволжанский, так как Днепр течет здесь одним только руслом и не слишком широк. Мы нашли здесь много маленьких татарских лодочек, связанных из хвороста и кругом обтянутых свежею кожею. Близ этого порога, на правом берегу, скрывались в засаде до четырехсот козаков, которые вытащили свои лодки или челны на землю, а сами лежали в кустах и зарослях; они были высланы сюда из Сечи, чтобы преградить путь татарам, на случай, если бы часть их задумала переправиться сюда, как того опасались. Одиннадцатый порог, Таволжанский [теперь забора Таволжанская], мы оставили вправо, обойдя его с левой стороны, а двенадцатый, Липший, – прошли. У тринадцатого, именно Вольного, мы вышли на татарский левый берег и, причаливая к земле, наткнулись на камень, но, к счастью нашему, судно ударилось своим хорошо укрепленным носом. Близ этого порога впадает в Днепр речка Вольна; здесь оканчиваются пороги в расстоянии семи миль от первого; отсюда до Кичкаса 1½ мили. Здесь также существует татарская переправа; Днепр в этом месте очень узок и берега его, особенно левый, весьма возвышенны и скалисты. Отсюда до Хортицы – прекрасного, гористого, обширного и веселого острова, имеющего около двух миль в длину и делящего русло Днепра на две ровные части, – ½ мили. Здесь мы провели ночь. На этом острове козаки держат зимою своих лошадей. К вечеру упомянутые выше 400 козаков, которые составляли стражу против татар у Будиловского порога, присоединились к нам и отсюда уже вместе со мною отправились в Сечь. Июня 8-го дня дошли до острова возле Белогорья 3½ мили [против села Беленького, Екатеринославской губернии и уезда]; там обедали. Отсюда до другого острова ½ мили. Июня 8-го дня прибыли на остров, называемый Базавлук, лежащий при одном из днепровских рукавов – Чертомлыке, или, как они называют, при Чертомлыцком Днеприще, 2 мили. Здесь находилась в то время козацкая Сечь; они выслали навстречу нам несколько более знатных лиц, чтобы приветствовать нас от имени всего их товарищества, и при нашем приближении салютовали множеством пушечных выстрелов. Едва мы вышли на берег, как они тотчас же проводили нас в коло. Всего за несколько дней перед тем, именно 31 мая, их вождь Богдан Микошинский отправился в море на 50 судах с 1300 человек. [Микошинский предпринял поход на турецкие владения по внушению императора Рудольфа II, который завел сношения с запорожцами через Станислава Хлопицкого еще в начале 1594 года.] Мы просили доложить колу, что мы чрезвычайно обрадованы, найдя все рыцарское товарищество в добром здоровье. Затем, так как вождь был в отсутствии и не все войско находилось в сборе, мы не пожелали на этот раз изложить свое поручение, оставляя это до благополучного возвращения гетмана и всех остальных. Они охотно согласились на это; затем мы отправились в свои шалаши (которые они называют кошами), плетенные из хвороста и покрытые сверху лошадиными кожами для защиты от дождя.