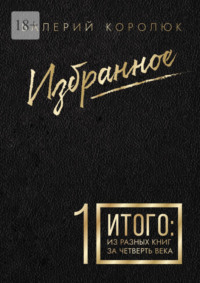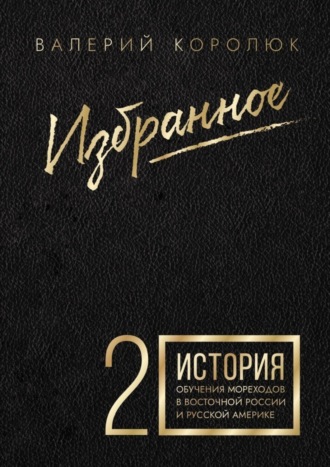
Полная версия
Избранное-2. История обучения мореходов в Восточной России и Русской Америке
К 1 сентября 1855 г. в училище насчитывалось 19 человек, в том числе 6 кондукторов, 12 учеников и 1 кандидат (поступил в училище на место ученика, взятого неприятелем в плен на шхуне «Анадырь»). Занятия проводились согласно программе, изданной для воспитанников 1-го штурманского полуэкипажа.
Несмотря на неудобства размещения на новом месте, кондукторы занимались в зимние месяцы повторением пройденных наук, а также проверкой и определением хода хронометров. Из 12 учеников двое учили навигацию, шестеро — тригонометрию, а остальные проходили только арифметику. Все ученики занимались в одном классе. В программу входили: закон божий, арифметика, геометрия, тригонометрия, навигация, астрономия, геодезия, лоция, курс морской практики, история, география, русская грамматика, английский язык, черчение карт67. Перед навигацией от учеников добивались практических навыков в измерении секстаном высоты Солнца, при обсервациях – умения наблюдать время по хронометру, определять погрешность секстана, сравнивать ход хронометров между собой. Распределение времени занятий в течение суток было следующим:
Сон 8,5 час.Одевание, умывание, молитва, завтрак 1,5 час.Учение в классе 6 час.Повторение уроков 3 час.Фронтовое учение68 1 часОбед и ужин 2,5 час.Вечерняя молитва и умывание 0,5 час.Таким образом, непосредственно занятия занимали 9 часов. Без различия на праздники и будни, ученики вставали в 5,5 час. утра. В отличие от современной методики подготовки, после завтрака до 8 часов проводились самостоятельные занятия69. Заметное отличие самостоятельной подготовки от современной было и в том, что ученики готовили домашнее задание непосредственно перед уроком, что позволяло преподавателю сразу продолжать предыдущую тему.
Большое место в обучении занимала практика на кораблях флотилии70. Во время нее, ввиду некомплекта офицеров на транспортах, кондукторы несли самостоятельную ходовую вахту, одновременно исполняя обязанности по штурманской части. Ученики осваивали практические азы штурманской службы: бросали лаг, отмечали курсы, брали пеленги, вели журнал, вели счисление, сами бросали лот, если глубины не превышали 10 сажен.
Поведение воспитанников училища в целом оценивалось как хорошее и отличное, средняя успеваемость же была невысокой – 7 по 12-балльной шкале (успеваемость кантонистов – на балл ниже).
Преподавательский и административный состав училища включал в себя опытных местных офицеров71. Но учебная база была недостаточной: в 1855 г. приобретен секстан Троутона и в библиотеку училища поступили подаренные капитаном 2 ранга К. Н. Посьетом 15 учебных книг. Руководством в управлении хозяйством служили табели и штаты 1-го штурманского полуэкипажа72 (Н. Н. Назимов неоднократно обращал внимание командования на неприменимость к условиям Дальнего Востока этой табели полуэкипажа, расположенного в Кронштадте, и на необходимость отдельного положения о своем училище73, однако до конца существования последнего сие так и не было сделано).
Поступающие в Морское училище должны были удовлетворять следующим условиям: быть не моложе 9 и не старше 12 лет, быть совершенно здоровыми, не иметь никаких телесных недостатков, расположения к золотушной и другим болезням, иметь свидетельство о прививке оспы и метрическое свидетельство о крещении. Каждый поступающий обязан был читать по-русски бегло и правильно, хорошо писать под диктовку.
Согласно правилам, принимались учениками:
1) дети офицеров и чиновников, служащих в Восточной Сибири и Камчатке;
2) дети строевых и нестроевых унтер-офицеров Морского ведомства, которые особенным усердием к службе и личной храбростью обратили на себя внимание начальства;
3) дети военных чинов, состоящие в Камчатском отделении кантонистов, которые по умственным способностям и благонравному поведению дают надежду быть полезными на службе в звании штурманских кондукторов Камчатской флотилии;
4) дети иностранцев, принявших подданство, которые проживают в Восточной Сибири или в Камчатке и деятельностью своей и ответственным поведением заслужили внимание начальников той страны, в которой проживают.
В 1858 г. в это учебное заведение поступил «по воле его императорского высочества генерал-адмирала» 9-летний С. О. Макаров74. По его воспоминаниям, в обучении полагалось пребывать 12 штурманским ученикам (половина из которых – старшие, другая – младшие), «постельное белье воспитанников составляли: тюфяк из конского волоса, подушка вместо перинной (чего в Николаевске не достать) из того же волоса, одеяло байковое и простыни. Обед и ужин в будни состоял из двух блюд, в праздники же: обед из трех, а ужин из двух».
В училище штатными были тогда только должности директора и его помощника. Преподаватели назначались из числа свободных от службы офицеров флотского экипажа и портовых морских чиновников, которые платы за свои лекции не получали (а потому и, не особо утруждая себя посещением занятий, «учили кадетов каждый по своему разумению и своей программе»). Макаров после вспоминал: «с начала зимы были назначены, по обыкновению, к нам учителя по всем предметам, но с первого же раза стали ходить весьма редко, так, учитель русской истории Невельской во всю зиму приходил два раза, так что я успел пройти из этого предмета одну Ольгу святую». Более благоприятное впечатление на юного кадета произвели преподаватель всеобщей истории и географии, заведующий офицерской библиотекой К. Ф. Якимов, преподаватель русской словесности и французского языка Н. Я. Стоюнин и преподаватель права Б. А. Бровцын. Именно эти педагоги, видя желание Макарова учиться, давали ему уроки на дому, приняли в его судьбе деятельное участие.
Губернатор новообразованной Приморской области и командир портов Восточного океана контр-адмирал П. В. Казакевич сообщал 25 декабря 1859 г. генерал-губернатору Восточной Сибири генерал-адъютанту Н. Н. Муравьеву-Амурскому, что «штат училища не утвержден, Члены Ученого Комитета друг перед другом стараются на бумаге показать свою ученость, а в сущности ученикам скоро нечего будет есть».
Позже положение стало понемногу выправляться. Директором училища был назначен полковник В. М. Бабкин, гидрограф-исследователь и один из самых образованных и подготовленных штурманов флотилии, однако Макаров приводит о нем не самый лестный отзыв… Нравы в училище бытовали суровые, старшие безраздельно властвовали над младшими, те находились у них в полном личном услужении. Макаров в своем дневнике с осуждением пишет о поведении старших кадетов: «Мы жили довольно дружно, только старшие обращались с нами гадко: они наказывали нас [оставляя] без обеда за всякую малость».
Несмотря на значительные упущения в организации теоретического обучения, ученики получали отличную практику на Сибирской флотилии. С началом навигации старшие ученики расписывались на корабли флотилии, на транспорты «Японец» и «Манджур» и проходили практику до августа, 6 младших кадетов оставались в училище. «Практические занятия состояли в следующем: править рулем, бросать лаг, брать пеленг и углы, вести шканочный журнал, прокладывать на карте, делать астрономические наблюдения, вычислять широту, долготу и склонения компаса; также производить: топографическую съемку, морскую опись и промер, снимать виды берегов и составлять исторические журналы»75.
До начала занятий своего выпускного курса С. О. Макаров занимался с кадетами младшего курса. С началом занятий на последнем курсе, он стал изучать астрономию, историю, географию, повторять математику и физику. В 1865 г. в штурманском училище были проведены выпускные экзамены. Офицеры-экзаменаторы обращали большое внимание на практическое знание штурманского дела. Макаров экзамены сдал очень хорошо, со средним баллом 11 (по 12-балльной системе). Но выпускники должны были еще два года отплавать на кораблях и только после этого (со сдачей дополнительных экзаменов по теории и практике) получали чин кондуктора флотских штурманов, а после стажировки и сдачи экзаменов за нее – становились прапорщиками.
По сравнению с училищами Европейской России, производство в чин выпускников Морского училища Приморской области Восточной Сибири в 1855—1871 гг. имело свои особенности. До 1860 г. положения о нем не существовало, и руководство придерживалось программ и правил для штурманского училища в Кронштадте. Однако затем вышло новое положение о кондукторском звании76, которое самым негативным образом сказалось на выпускниках: теперь при недворянском происхождении чин кондуктора можно было получить только через 12 лет службы. Одновременно все кондукторы старого времени перечислялись в унтер-офицеры77 (т.е. закон получал, в соответствии с «доброй российской практикой», обратную силу).
Потом управляющий Морским министерством Н. К. Краббе приказом №94 от 19 июня 1863 г. «на основании Высочайшего повеления» установил: «Бывшая Охотская школа, переименованная ныне в Морское училище Приморской области Восточной Сибири не имеет положения, которым бы определялись права воспитанников по окончанию в оном полного курса наук, выпускаемых на действительную службу в Морское ведомство, и потому производство их в кондукторы и прапорщики корпуса флотских штурманов разрешалось до сего времени по ходатайству местного начальства и по особым каждый раз Высочайшим повелениям, не за одни сроки выслуги. Впредь, до издания особого положения о МУ Приморской области Восточной Сибири, принять за правило производить воспитанников на тех же основаниях, что и вольноопределяющихся», т.е. «по выслуге лет согласно их происхождению с установленного 16-летнего возраста».
На практике это выглядело так: 16 мая 1865 г. кадет С. О. Макаров сдал экзамены. Сдал отлично. Командир Сибирской флотилии и портов Восточного океана контр-адмирал П. В. Казакевич ходатайствовал перед командующим войсками Сибирского округа генерал-майором К. Н. Шелашниковым, а тот 21 июля – перед управляющим Морским министерством адмиралом Н. К. Краббе о производстве Макарова «за его отличное поведение, прилежание и вполне обнаруженные успехи в науках, не в пример прочим, в гардемарины флота с назначением в Сибирскую флотилию, где он своим усердием, знанием морского дела и энергией будет весьма полезен и оправдает внимание начальства». Ответ был отрицательным, «по формальным признакам». Т.е., по выслуге лет, Макаров, если он действительно происходит из дворян, будет иметь право на производство в кондукторы не ранее 27 декабря 1866 г., т.к. только тогда выслужит 2-летний срок с установленного 16-летнего возраста, «и во всяком случае, для удостоверения в его дворянстве должны быть в свое время доставлены в департамент документы об его происхождении». Через два года (в марте 1867 г.) ставший уже генерал-лейтенантом К. Н. Шелашников вторично представляет Макарова в гардемарины: «Воспитанник Николаевского морского училища Степан Макаров выслужил к 27 декабря с.г. двухгодичный срок, указанный в отзыве вашего превосходительства от 3 августа 1865 г. Ходатайствуется о производстве его за отличное окончание им курса наук в гардемарины флота с назначением в Сибирскую флотилию, где он своим постоянным усердием к службе и знанием морского дела уже обратил внимание начальства».
Решение по Макарову было принято лично императором, и 14 июля 1867 г. последовал приказ морского министра №128: «Производится за выслугу лет и по экзамену: воспитанник Морского училища Приморской области Восточной Сибири Степан Макаров с высочайшего разрешения в гардемарины с назначением в Балтийский флот». А 24 мая 1869 г., после плавания на фрегате «Дмитрий Донской», С. О. Макарову было присвоено и первое офицерское звание – мичман. До производства в офицеры он прослужил 11 лет (из которых провел в море: 1 042 дня на ходу и 142 дня на якоре).
Увы, первым и главным основанием для производства в чин было тогда сословное происхождение. Вне зависимости от «благородно-безукоризненного поведения, знания дела, постоянного исполнения должности офицера» и успехов в учебе, простолюдин мог быть произведен в кондукторы лишь через 12 лет, а в офицерский чин по адмиралтейству – только за отличие в бою либо по экзамену. Такой порядок просуществовал без изменений до 1874 г.
Техническая отсталость российского флота, проявившаяся в войне 1853—1856 гг., потребовала улучшения подготовки офицерских кадров и перехода от рекрутской повинности к всеобщей воинской. В 1855 г. была создана правительственная Комиссия по ревизии военно-морских учебных заведений. В марте 1859 г., по приказу великого князя Константина Николаевича, все накопленные ею материалы переданы адмиралу Е. В. Путятину для составления проекта преобразования морских учебных заведений, и уже через 2 месяца этот проект представлен им на высочайшее утверждение.
Предполагалось, что военный флот будет комплектоваться только офицерами с высшим образованием. Сохранялись Морской корпус и Техническое училище78 Морского ведомства, все же остальные училища79 расформировывались, а избыток кадетов переводился в специально созданные казенные мужские гимназии, подчиненные Военному ведомству.
В своем годовом отчете за 1868 год Приморский военный губернатор сообщал о состоянии учебных заведений и средств обучения в области следующее: «Отдаленность Приморской Области даже от имеющихся в Сибири учебных заведений составляет одно из невыгодных условий жизни в этом краю лишая образованный класс населения возможности дать желаемое образование своим детям. В устранение до некоторой степени от этого неудобства учреждены в Николаевске два казенных училища штурманское и женское, но первое из них имея совершенно специальный характер не могло удовлетворить существующей здесь главным образом потребности в элементарном образовании и оно в настоящее время имея всего одного воспитанника предполагается к закрытию с тем, чтоб назначаемые суммы на содержание его Морским Министерством 1 040 р. обратить на увеличение средств открытого в 1867 году элементарного училища… В Николаевске существует еще одно народное училище при порте, где мальчики после занятий в мастерских в вечернее время обучаются грамотности и начальным насущным познаниям под руководством состоящих при порте офицеров».
В 1870 г. Морское училище в Николаевске-на-Амуре было окончательно ликвидировано, с преобразованием его в четырехклассную (чуть позже – шестиклассную) мужскую классическую прогимназию. В 1876 г.80 эта прогимназия, имевшая среднегодовое число учащихся 65 человек и ежегодный выпуск 1—3 ученика, была переведена во Владивосток, вслед за главной военно-морской базой Тихоокеанского побережья страны: «Владивостокская шестиклассная мужская Прогимназия с приготовительным при ней классом содержится на счет Государственного Казначейства… каждый ученик вносит ежегодно за право учения в приготовительном классе 14 рублей, а в остальных классах по 20 рублей… помещается в одноэтажном на каменном фундаменте здании81, в означенном здании помещаются квартиры: Директора и двух помощников классных наставников… При крайнем недостатке преподавателей в Прогимназии, преподавание поручено Военным Губернатором Приморской Области лицам, служащим в Области… Пансиона при Прогимназии нет. Приходящие ученики живут у родителей и родственников… При Прогимназии имеются библиотеки фундаментальная, ученическая и продажная».
В 1895 г. это учебное заведение стало полной восьмиклассной гимназией, с 1899 г. подчиненной Восточному институту82. Вот только навигацких наук в ней никогда больше не преподавали…
Закрытие единственного на Дальнем Востоке военно-морского училища негативно отразилось на подготовке кадров для Сибирской флотилии из местного населения. Единственным военным учебным заведением региона с 1888 г. стала Хабаровская приготовительная школа Омского кадетского корпуса (с 1900 г. – Хабаровский кадетский корпус). Ряд выпускников последнего в дальнейшем окончили Морской корпус и служили на Сибирской флотилии.
2. Американский северо-запад
Морское училище Российско-Американской Компании
в Ново-Архангельске (1850—1867 гг.).
Созданная же в Русской Америке школа РАК в предпоследней четверти XIX в. получила определенное развитие. Если начальный период освоения россиянами акватории Тихого океана характеризовался крайне низким уровнем теоретической и практической подготовки мореходов, то успешная деятельность собственной морской школы в 1805—1867 гг. позволила затем компании регулярно получать профессиональные кадры, хорошо подготовленные к местным условиям.
И в 1861 г. член Госсовета барон Ф. П. Врангель акцентировал внимание «верхов» на том, что компания теперь осуществляет морские перевозки «на русских исправно управляемых мореходных судах, и тем прежде заслужила общее одобрение даже со стороны иностранцев, имевших случай на этих судах плавать и видеть верфи и мастерские в Ново-Архангельске».
В 1859 г. было учреждено «общее Российско-Американское училище (для мальчиков)», и морская школа органично вошла в его состав – «по ходатайству главного правления компании, последовало учреждение в Новоархангельске училища для детей служащих компании под названием общего училища российско-американских колоний на следующих главнейших основаниях:
1) Училищу предоставляются права уездного училища. Надзор и наблюдение над ним возлагается на главного правителя колоний; учащие же, имеющие право преподавания, считаются в действительной государственной службе по ведомству министерства народного просвещения, со всеми правами, присвоенными учителям уездных училищ в Сибири.
2) Курс учения и самое преподавание устанавливаются как в трехклассных уездных училищах, с дополнением программы, для поступающих туда детей духовного звания, предназначенных для поступления в семинарию, предметами, преподаваемыми в уездных духовных училищах. Для воспитанников же, готовящихся к поступлению прямо на специальную службу компании в колониях, положено преподавать дополнительно: бухгалтерию, необходимую часть математики, навигацию и мореходную астрономию, немецкий и английский языки, и некоторые коммерческие науки, необходимые для компанейской службы, как по части торгового мореплавания, так и по занятиям торговым.
3) Воспитанники, окончившие с успехом полный курс учения и выпущенные на службу компании, по прослужении шести лет в должностях, положенных по штату компании в числе классных, получают звание личных почетных граждан. В вознаграждение за образование, воспитанники училища должны прослужить компании 10-ть лет…». Таким образом, одних учеников готовили для морской службы, других – в конторщики, третьих – в духовное звание.
К тому времени Ново-Архангельск (Ситха) стал настоящей столицей Русской Америки, в городе проживало 1 200 жителей, там имелись христианский собор, духовная семинария и даже два научных центра, была построена судоверфь. В начале 1860-х годов «Ново-Архангельск походил на средний губернский город окраинной России. В нем имелись… семинария, школа музыки, мореходная школа, несколько училищ». В 45 селениях Русской Америки проживало 12 тысяч российских подданных. К 1867 г. там жили 812 русских, более 25 тыс. эскимосов, индейцев и алеутов, а также около 1,5 тыс. креолов – детей, родившихся от браков и внебрачных связей русских с женщинами из местного алеутского и индейского населения.
Новоархангельская мореходная школа просуществовала вплоть до продажи Аляски в 1867 г. (согласно «Записке Главного правления компании по делу о вознаграждении убытков от распродажи колониального имущества» (1868 г.), передача дел и имущества РАК завершилась 12 (24) октября, а Протокол о том был подписан 14 (26) октября; школу включили в его подпункт А – наряду с остальными капитальными зданиями и укреплениями, передаваемыми Соединенным Штатам).
Наверное, последним документом, подтверждающим это, является хранящаяся в архиве Дальнего Востока копия свидетельства, выданного через несколько недель после того, как в Ситхе был спущен русский флаг и состоялась формальная передача ее Соединенным Штатам: «Предъявитель сего ученик Мореходства Иван Нордстрем, на основании 858 ст. XI т. Св. зак. Гражд. изд. 1857 г. был допущен 24 Ноября 1867 г. к испытанию в теоретических и практических познаниях по Мореходству в присутствии коммиссии состоявшей из офицеров Российского Императорского флота и преподавателей Общего колониального училища и по произведении сего испытания удостоен званием российского штурмана. В удостоверение чего и выдано ему Нордстрему сие свидетельство от Главного Правителя Российских колоний в Америке. Ноября 25 дня 1867 года. Подписал: Исправляющий должность Главного Правителя колоний Капитан 1-го ранга Князь Максутов».
Пожалуй, стоит упомянуть и о том, что первым моряком, проэкзаменованным созданной позже во Владивостоке «правительственной испытательной комиссией для производства экзаменов на судоходные звания» и получившим от нее в 1889 г. диплом шхипера дальнего плавания стал 32-летний Александр Егорович Больман, «из бывших жителей Ситхи. Образование получил в Ситхе».
Американцы же начнут восстанавливать просвещение в этом своем самом большом округе (тогда еще – не штате) лишь спустя 17 лет – в 1884 г. приняв Административный закон, по которому из федерального бюджета выделялось 25 тысяч долларов на цели образования (в виде миссионерских школ для «народа Аляски» – впрочем, тоже без разделения на белых поселенцев и аборигенов).
Итак, в первой четверти XVIII в. система военно-морского образования в России прошла период начального становления и стала развиваться на собственной национальной базе.
К этому времени сложилась объективная необходимость создать порт на побережье Охотского моря – для военно-хозяйственного освоения и закрепления за Россией Дальнего Востока, что потребовало формирования на Тихом океане своего флота и системы его базирования. Для обеспечения транспортной флотилии, доставлявшей грузы на Камчатку, знающими местные условия штурманами, подготовку их удобнее было проводить на месте, из числа проживающего здесь населения.
Охотская навигацкая школа была первым запланированным к открытию морским учебным заведением Дальнего Востока (указ о чем состоялся 10 марта 1731 г., и эту дату можно считать днем основания морского образования на Дальнем Востоке), однако в первые десятилетия своего существования давала она только общеобразовательные знания (т.е. являлась одновременно и первым учебным заведением народного образования на Дальнем Востоке), до навигацкой же развилась фактически лишь к 1756 г. Именно эта школа (единственная из четырех тогда созданных) смогла дорасти потом до статуса специализированного военного училища и продолжить свое существование в XIX веке.
Таким образом, хотя первые учреждения морского образования начали появляться в России еще в конце XVII века, на Дальнем Востоке первая школа была открыта лишь в 1732 г., а первым учебным заведением, фактически выпускавшим здесь штурманов, в т.ч. и для гражданского флота, стала созданная в 1754 г. Иркутская школа навигации и геодезии. Основная часть ее выпускников переходила штурманами в торговый и промысловый флот, в том числе в Российско-Американскую Компанию.
Все сибирские навигацкие школы (Якутская и Охотская, Иркутская и Нерчинская), открытые в XVIII веке целенаправленно, под конкретные исследовательские экспедиции (Вторую Камчатскую и Амурскую (Нерчинскую секретную), соответственно), вынуждены были прежде всего учить сибирских детей обычной грамоте и готовить, помимо моряков, специалистов для горного и военного ведомств. При этом только две из них – Иркутская и Нерчинская – с начала и до конца сумели выполнить первоначально поставленную задачу: обеспечивать экспедиционные нужды подготовленными на месте кадрами. Историк В. И. Вагин писал, что «навигацкие школы… принесли много пользы там, где были учреждены, а в Сибири, при общем недостатке средств к образованию, – может быть даже более, нежели в других местах».
Кроме того, Российско-Американская Компания, осваивавшая север Тихого океана, с конца XVIII в. стала учреждать в зоне своего влияния школы для туземцев и креолов. При одной из них затем было организовано и собственное, «компанейское», торгово-мореходное училище.
Эти школы дали России несколько сотен мореплавателей. Выпускники их внесли потом значительный вклад в освоение Сибири, Дальнего Востока и Аляски, непосредственно участвовали в экспедициях Г. И. Невельского и В. М. Бабкина по изучению, картографированию и промерам Охотского и Японского морей, принимали личное участие в боевых действиях войны 1853—1856 гг., в обороне Петропавловска-Камчатского и устья Амура.