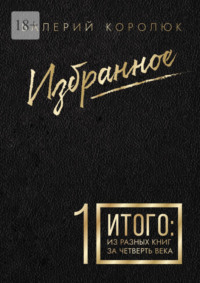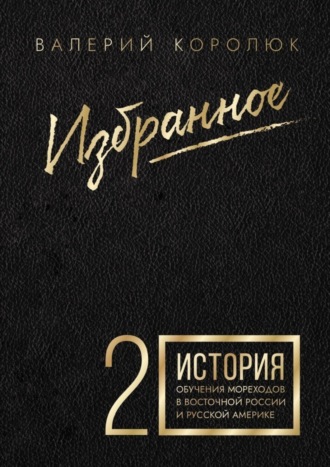
Полная версия
Избранное-2. История обучения мореходов в Восточной России и Русской Америке
Суда по сие время строились в Охотске самым худым образом; ибо делалось сие или одним из промышленных, не имеющим никакого понятия о строении морских судов, или каким-нибудь корабельным учеником, тож совершенно ничего не знающим. Построенное таким образом судно грузится и вооружается точно таковым же порядком, то есть без всякого знания нужных для сего правил.
Потом надобно для управления судна сыскать шкипера или морехода. Начальник Охотского порта дает, за несколько сот рублей, какого-нибудь нетрезвого и незнающего штурманского ученика; но обыкновеннее выбирали для сего одного из бывших несколько раз на островах промышленных, которых людей называют старовояжными, так как вновь отправляющихся казарами. Искусство сего морехода состоит в том, что он знает компас, затвердил курсы, коими должен идти от берега до другого, и по привычке помнит виды многих мест. Из Охотска пускается он наперед к Камчатскому полуострову, вдоль которого, если судно не разобьется на берегу, пробирается до первого Курильского пролива. Увидеть какое-нибудь приметное место называется перехватить берег. От Курильских островов далее, ищут перехватить какой-нибудь из Алеутских островов; идут вдоль гряды оных и стараются не терять из виду берегов, до Уналашки или Кадьяка, куда судно назначено. Идти вдоль Алеутских островов, называется пробираться по-за-огороду; ибо острова сии лежат столь близко одни от других до самой Америки, что держась вдоль, нельзя почти потерять оных из виду.
Судно, отправившееся из Охотска, не доходит никогда в тот же год до Кадьяка. Мореход боится оставаться в море долее начала сентября. Как скоро наступит сей месяц, он, увидев берег, приваливает к оному в заливе, или в немного закрытой губе, выбирает где берег песчаный, то есть мягкое место, вытаскивает на оное судно свое, строит для людей землянки, кормит их ловимыми зверями и рыбою до июля месяца; ибо с сего только времени, по его счету, начинается безопасное плавание; тогда стаскивает судно и отправляется далее… Бывали примеры, что суда из Охотска на Кадьяк приходили в четвертый только год; потому что плавают самое короткое время, идут с благополучными только ветрами, а при противном лежат на дрейфе, хотя бы он был самый тихий; ибо не имеют понятия о лавировании…
К совершенному незнанию мореплавания должно еще прибавить безначальство; ибо промышленные не имели никакого уважения к мореходцам своим, коих они часто бивали или заколачивали в каюту. Когда долго не видят берега, то по совету между собою сменяют морехода, запрут его, выберут другого и кидаются на берег, если только найдут оный. Я говорю кидаются; ибо нельзя иного названия дать вытаскиванию судов на каждом берегу. Объявленный бывшим министром Мордвиновым Указ Его Императорского Величества, по которому позволяется морским чиновникам, не оставляя службы, с половинным жалованьем вступать в учрежденные для торговли общества, может подать средство к приведению мореплавания по Восточному океану в лучшее прежнего состояние. Хвостов и я были первые морские офицеры, вступившие в американскую компанию; посему всяк удобно себе представить может, какие трудности преодолевать, какие недостатки во всем претерпевать, какие закоренелые предрассудки истреблять, каких привычных к буйству людей усмирять, и наконец с каким невежеством должны мы были беспрестанно бороться».
В 1808 г. Главный правитель Русской Америки А. А. Баранов, «согласно мнению Резанова, утвержденному главным правлением компании», перенес главное колониальное управление с о. Кадьяк на о. Ситха, в г. Ново-Архангельск; вместе с администрацией переехала туда и школа (но часть ее осталась на Кадьяке). «Компания терпела в это время большой недостаток в хороших мореходах. Морское начальство, по случаю военного времени, должно было прекратить увольнение на службу компании флотских офицеров и штурманов, и не смотря на все старания главного правления найти хороших командиров для компанейских судов в присоединенной в то время к России Финляндии, никто из тамошних шкиперов не решался отправляться так далеко. К тому-же, охотское начальство поступало иногда с компанией весьма неправильно, отбирая, как жаловался Баранов, из компанейской службы, без ведома главного правления или колониального правителя, подштурманов и учеников, и даже таких, на которых состоял долг компании, по заборе ими содержания вперед. Компания потеряла от таких самовольных распоряжений немалые суммы». Несмотря на то, что на Дальнем Востоке уже продолжительное время действовал целый ряд навигацких школ, грамотных специалистов морского дела постоянно не хватало, и РАК «даже осмеливалась казенных матросов иногда удерживать под предлогом долгов».
Только в течение первого периода своего существования57 РАК приобрела 5 иностранных судов для кругосветных экспедиций и 8 – для плаваний в колониальных водах, еще 15 судов было построено ею на колониальных верфях и в Охотске. Из них 16 судов потерпели крушения, 5 были «разобраны по ветхости» и 3 – проданы.
К. Т. Хлебников, правитель местной конторы в 1817—1832 гг., а затем директор Главного правления РАК и член-корреспондент Петербургской Академии наук, так описывал обеспечение Морского училища в Ново-Архангельске: «Г. главный правитель, Матвей Иванович Муравьев, с начала прибытия своего, от 15 декабря 1820 г. за №105, сделал учреждение относительно училища, следующим предложением:
«Стараясь содействовать благодетельным намерениям Р. А. К., я велел составить штат содержанию и одежде учеников в Ново-архангельске. Сей штат, составленный по возможности экономическим образом, однакож безбедный, предлагаю конторе для ведения и исполнения. Контора заметит, что съестные припасы здесь означены может быть в недовольном избыточестве. Сие сделано по крайне трудному и стеснительному способу доставать оные провизии, и для того, сверх здесь означенных, должно довольствовать учеников экономическими средствами, как-то: огородными овощами, рыбою свежею и соленою, китовиною и котовым мясом; поколику возможно отпускать монтени или масла и тому подобные вещи. При сем училище должен находиться, кроме учителя и его помощника, один смотритель за малолетними, у него должны храниться все их вещи; он должен смотреть за столом, бельем и одеждой. А дабы обмыть и обчинить учеников, должно назначить доброго поведения женщину из алеуток, на жалованье по 100 руб. в год.
Все сии издержки постановлять на счет капитала благотворительных заведений.
ШТАТ СОДЕРЖАНИЮ ОДЕЖДОЙ И ПИЩЕЙ 30 ШКОЛЬНИКОВ: …Всего в год 2050 р.»
В постановлениях главного правления и главного правителя, хотя и не положено определительно в выдачу креолам пайка, по уважению недостатков; но с того времени все они получали по одному пуду или в половину муки, каждомесячно, и служив матросами, – положенную морскую провизию. Недостатки в рыбе, не редко случающиеся в Ситхе, приводили в необходимость и сверх пайка позволять им иметь прикупку на деньги из лавки, и потому определено было отпускать получающим пайки, женатым, круп 6 ф., гороху 6 ф., и на каждого ребенка круп 4 и гороху 4 фунт.».
Там же отмечено, что «прежде находили нужным отправлять креол в С. Петербург, для обучения мореплаванию и искусствам. Но опыты показали, что и на месте они могут приобретать все нужные сведения, без тех великих издержек, кои должно употреблять для обучения и содержания в столице. Есть примеры, что учившиеся кораблестроению были возвращены как не совершенно понявшие теорию науки, и не занимавшиеся вовсе практикой, а потому на месте не могли быть и употребляемы. Некоторые из учеников навигации хорошо поняли науку; но вместе с тем, получив понятие о прелестях роскоши, получили и дурные навыки58… Основываясь на примерах, мы видим, что обучившиеся на месте креолы исправляют свои дела очень хорошо. Есть из них ученики мореплавания, кои командуют мореходными небольшими судами; есть бухгалтеры и прикащики, знающие счетную часть; а мастеровые бронзового дела и литья меди, вероятно, не уступают своим мастерам. Ныне можно надеяться иметь учеников медицины, хирургии и навигации, о коих отзываются уже с похвалою».
Вот почему нельзя согласиться с утверждением Н. И. Барбашева о том, что в Российской Империи «к 30-м годам XIX в. торгово-мореходное образование могли получить только 32 ученика в штурманских военно-морских училищах» – Кронштадтском и Николаевском, следовало бы приплюсовать сюда также около 30 учеников Новоархангельского мореходного училища.
10 парусных кораблей входили тогда во флотилию порта Ново-Архангельска, население города составляли 813 человек, в том числе 309 русских, а население всей Русской Америки исчислялось 10 тысячами человек.
К 1 января 1825 г. в Новоархангельской крепости насчитывалось «малолетних мужескаго пола» – 66, морских офицеров – 1, штурманских чинов и мореходов – 8, при них помощников – 6, учитель и смотритель – 2, а «во время командирования судов в навигацию 1825 оставалось при порте всех служащих, включая мальчиков-учеников при мастерских, 180 человек». В общей сложности, здесь «в 1827 году, по колониальным отчетам, состояло… три училища для мальчиков: в Новоархангельске, на Кадьяке и на Уналашке… Все эти училища и приюты состояли на иждивении компании».
Особый пласт исторических документов о деятельности морской школы РАК составляют свидетельства очевидцев – флотских офицеров, участвовавших в кругосветных плаваниях, ситхинских служителей и иностранных наблюдателей. Так, капитан Литке, ходивший в Америку на шлюпе «Сенявин» в 1826—1829 гг., отмечал, что «в Ново-Архангельске устроена школа для 30 мальчиков, в которой креолы получают первоначальное образование до 16-летнего возраста, потом до 20 лет распределяются по разным должностям и занятиям, смотря по способностям каждого, на приличном содержании… Из приготовленных таким образом креолов, компания имеет уже нескольких мореходцев, управляющих небольшими судами, бухгалтеров и прикащиков, весьма хорошо знающих свое дело, исправных мастеровых и отличных матрозов. Несколько человек было отправляемо в разные времена в Россию, для обучения мореплаванию и искусствам, но из этих не многие удались; иные не доучились, другие хотя и выучились, но отвыкнув от старого образа жизни, вывезли с собой напротив того такие привычки, кои делали их здесь ни к чему не способными».
На плане Ново-Архангельска, составленном в 1836 г. доктором Э. Л. Блашке, обозначено «морское училище с интернатом для мальчиков», перед которым установлена модель шхуны в натуральную величину (по-видимому, использовавшаяся для отработки практических навыков). Училище располагалось у самой крепостной стены, между артиллерийской «батареей из 8 орудий, обращенной на колошенское59 селение» и зданиями адмиралтейства и мастерских.
Исследователи отмечают, что «на полках ново-архангельской библиотеки стояло полторы тысячи книг на русском, французском и английском языках. Были и шведские, голландские, испанские, итальянские издания. …Будущие мореходы изучали здесь чертежи кораблей, присланные П. В. Чичаговым».
Будущий генерал, организатор Петропавловской обороны В. С. Завойко, после плавания лейтенантом на судне «Николай» в 1837—1839 гг., вспоминал: «из адмиралтейства мы перешли в училище, преобразованное в 1832 году для воспитания юношества. Комплект его состоит из 45 человек. В училище принимаются дети здешних служителей, креолы и преимущественно сироты. Оно помещается в довольно обширном здании; спальни детей просторны и опрятны, снабжены приличной, можно сказать, роскошной мебелью, классы не уступают спальням, а библиотека имеет все нужные пособия для образования малюток, свежих, здоровых, полных жизни и подающих множество прекрасных надежд в будущем. Курс, здесь преподаваемый, заключается в нравственном образовании, в познании православной веры, русского языка и математических наук, собственно относящихся до морского искусства и ремесла. Способнейшие из воспитанников выпускаются в помощники штурманов; остальные размещаются в разные должности по управлению и по мастерствам в порте».
Аналогичны и впечатления иностранца, директора компании Гудзонова залива Д. Симпсона, посетившего остров Ситха в 1841 г.: «после обеда мы осматривали школы, в которых было 20 мальчиков и столько же девочек, по преимуществу креолов; из них сироты содержались на счет компании. Дети одеты были чисто и казались здоровыми… Мальчики из ситхинской морской школы…, по достижении известных лет, определялись в службу компании и по преимуществу на море60; девочки же в известное время делались женами тех же служащих в компании».
Церковный отчет в Синод за тот же 1841 г. сообщает, что в основных местах поселений русских на Аляске (в Новоархангельском, Кадьякском, Уналашском и Атском приходах) проживало тогда 6 085 прихожан (3 154 мужчины и 2 931 женщина); из них разночинцев – 1 103 (596 мужчин и 507 женщин), купцов – 192 (122 мужчины и 70 женщин), крестьян – 434 (307 мужчин и 127 женщин), инородцев – 4 223 (2 085 мужчин и 2 138 женщин), а также 11 лиц духовного звания, 20 военных с семьями и один штатский без семьи.
Это был апогей деятельности РАК: «компанейская флотилия состояла к 1842 году из 15 судов, назначавшихся в разные плавания… и сверх того из 5… употреблявшихся, по ветхости, только на портовые надобности». Следует учесть, что большинство судов укомплектовывалось шкиперами, штурманами, матросами и юнгами, являющимися уроженцами Аляски и прошедшими обучение в местной морской школе. К примеру, только на шлюпе «Александр» в том же году «корабельная команда, простиравшаяся до 36 человек, состояла из капитана, двух штурманов, лоцмана, боцмана, боцманмата, констапеля и его помощника и 28 военных матросов; сверх того на шлюпе находилось 4 мальчика, из ситхинской морской школы, назначенные на это судно для приобретения практических сведений по части их будущей профессии».
«Число учебных заведений в колониях для воспитания детей туземцев простиралось к 1840 году до восьми, а именно четыре училища для 100 мальчиков, и столько же приютов для девочек… находились до 1844 года в колониях школы, учрежденные собственно на иждивение компании, в Новоархангельске две: мужская на 40 мальчиков и женская на 25 девушек; в Кадьяке две: мужская на 20-ть мальчиков и женская на 10 девушек и в Уналашке две: мужская на 5 мальчиков и женская на 5 девушек. В мужских школах обучали: чтению, письму, закону Божию, граматике и первым основаниям арифметики; в женских ограничивались преимущественно приучением воспитанниц к рукоделиям и к разным хозяйственным работам.
По выпуске из мужской школы воспитанники, одаренные хорошими способностями и оказавшие хорошие успехи в науках, отправляемы были для окончательного образования в С. Петербург в училище торгового мореплавания (Впоследствие определили привезенных из колоний малолетных креолов и в другие заведения. Так в течение настоящего периода окончили курс наук: в штурманском училище 4, в коммерческом 4, в технологическом институте 2, в медикохирургической академии 1, в училище же и потом в роте торгового мореплавания обучалось 10 креолов. Ныне состоит в разных заведениях, на счет компании, 9 мальчиков и 3 девочки.)61 или для обучения разным ремеслам… Некоторые из них поступали в должность штурманских учеников на суда колониальной флотилии и обучались мастерствам, и наконец более посредственные назначались на суда в должности юнгов и матросов».
«С утверждением в 1844 году колониального штата было положено все школы, кроме первоначальных при приходах, соединить в одну мужскую и в одну женскую в Новоархангельске. Для мужской школы определено было иметь 50 воспитанников и 10 юнгов. Однако среднее число учащихся не достигало 40. Предметы обучения оставались те же самые. По достижении совершеннолетия, т.е. 17-ти лет, ученики поступают в службу компании на жалованье, соответственно способностям, в конторские должности или по разным мастерствам. Более способные назначаются в должности штурманов на суда и, для получения необходимых сведений в морских науках определяются на известное время в общее колониальное училище. Собственно на содержание мужской школы, независимо от помещения, отопления, освещения и учебных пособий, положено компанией до 1 850 р. сер.».
II глава. Развитие
Восточная (Крымская) война заставила правительство обратить внимание на состояние не только военного, но и торгового флота. К тому же, со второй половины XIX века начались принципиальные изменения в судостроении и кораблевождении, связанные с переходом от парусных деревянных судов к металлическим (а затем и к броненосным), снабженным паровыми двигателями, сопровождавшиеся увеличением водоизмещения, переходом от гребных колес к гребным винтам, разнообразием судовых устройств и технических средств навигации, поступлением новых видов технического вооружения, что значительно усложняло управление кораблями и судами и особенно остро поставило в Российской Империи вопрос о необходимости серьезной подготовки и экзаменовки судовых специалистов.
На флоте стало происходить углубление специализации различных видов деятельности, сделавшее очевидной потребность в проведении реформы морского образования и отказе от сословных ограничений.
1. Сибирский северо-восток
Штурманское (Морское) училище Охотской (Сибирской) флотилии в Петропавловске на Камчатке (1852—1855 гг.) и Николаевске-на-Амуре (1855—1870 гг.).
На Камчатке Охотский флотский экипаж, охотская мастеровая рота и камчатская рота были объединены в 46-й Флотский экипаж, при этом порт, флотилия и училище сохранили название «Охотские»62.
На протяжении 1850—1852 гг. имущество Охотского порта было перевезено на Камчатский полуостров, при этом для определения необходимого числа транспортов была составлена ведомость грузов и пассажиров. Вес имущества и библиотеки училища составил 500 пудов. Учеников Штурманского училища тогда было 29, школьников – 16. Однако перевести порт за время одной навигации оказалось невозможно, поэтому училище оставили в Охотске до следующего года. А уже через несколько месяцев Турция, Англия и Франция объявляют России Тройственную войну, более известную как Крымская (Восточная) … Еще через два года, с началом первой после героической Петропавловской обороны навигации, Штурманское училище Охотской (Камчатской) флотилии, не успев толком закрепиться на полуострове, эвакуируется вместе с военно-морской базой из Петропавловска на Камчатке в Николаевский пост, на Амур.
Сразу после окончания войны в 1856 г. была создана Приморская область Восточной Сибири с центром в Николаевском посту, переименованном в «город Николаевск на Амуре», бывшая Охотская флотилия стала называться «Сибирской флотилией на Восточном Океане», а Штурманское училище – «Морским училищем»63 (в отчете Морского министерства за 1856 г. отмечалось, что «Охотская школа дала уже несколько не только хороших, но и отличных офицеров в корпусе штурманов»).
Перемещение главного порта Тихого океана в Петропавловск-Камчатский не только не решило проблем Охотска, а наоборот, создало дополнительные трудности базирования флотилии в гораздо менее обустроенном порту. Еще до переезда туда Штурманского училища генерал-губернатор Камчатки генерал-майор В. С. Завойко принял деятельное участие в его судьбе. При его личном участии были составлены проект и положение о Морском училище в Петропавловске-Камчатском. Согласно проекту, штат училища должен был состоять из 30 воспитанников школы и неограниченного числа кантонистов. Расчет содержания – по 15 коп. в день на одного ученика, общая сумма расходов на школу и кантонистов – 7 500 руб. в год.
Проект «Положения о Петропавловском-на-Камчатке Морском училище и состоящей при нем школе кантонистов» предполагал «образовать юношей так, чтобы они могли с пользой для службы занять должность морского офицера, корабельного штурмана, морского артиллериста, корабельного инженера, инженер-механика, инженера морской строительной части и даже гражданского архитектора». Училище причислялось ко II разряду военно-учебных заведений, с соответствующей печатью: с имперским гербом и надписью «ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ». При этом ученики содержались за счет казны, а своекоштные оплачивали по 30 руб. в год (по половине этой суммы за полгода вперед). Училище должно было подчиняться непосредственно Камчатскому военному губернатору и начальнику Главного морского штаба (ГМШ). Директора училища назначал ГМШ, преподавателей – Камчатский военный губернатор.
Нравственное воспитание учеников предполагалось вести согласно «Правилам Военно-учебных заведений», изложенным в т. 3, ч. 1, книги III «Свода Военных постановлений и приложений». Общий срок обучения рассчитывался в 8 лет, с делением на 3 класса: подготовительный (2 года), общий и специальный (по 3 года каждый). Подготовленность учеников определялась числом баллов за каждую дисциплину. Для производства в офицеры требовалось не менее 10 (из 12) баллов по каждому специальному предмету и не ниже 8 баллов в прочих, при этом первый по выпуску производился прапорщиком в корпус флотских штурманов, с правом перевода после двух лет службы на флот мичманом. Прочие – в прапорщики КФШ, а не получившие указанные выше баллы – в кондукторы64 КФШ. Все производства должны были идти через ГМШ. Проект предусматривал, что выпускник обязан отслужить не менее 5 лет. Возраст поступающих должен был составлять не моложе 10 и не старше 15 лет.
Оценивая проект штата и положения о Камчатском морском училище в целом, надо отметить его прогрессивность и практическую направленность. Однако, по сравнению с Охотской школой, численность учеников возрастала с 12 до 30, а число кантонистов – с 18 до неограниченного, затраты при этом увеличивались более чем в 7,5 раз. Генерал-майор В. С. Завойко, как губернатор Камчатки, тем самым предполагал решить две задачи: подготовку кадров непосредственно для флотилии и обеспечение образования детям местного служивого населения, – с тем, чтобы в дальнейшем из них готовить кадры унтер-офицеров, матросов и мастеровых.
Основной проблемой проекта была финансовая, ибо Морское министерство не могло пойти на столь значительное увеличение расходов на училище. Переписка по утверждению этого положения велась в течение 1850—1854 гг. и была прервана войной.
В 1854 г., по получении известия о начавшихся военных действиях, В. С. Завойко принял все возможные меры для укрепления порта и создания береговой обороны. Воспитанники Морского училища65 приняли непосредственное участие в этих работах. 18 августа того же года англо-французская эскадра вошла в Авачинскую губу. Противник предпринял две попытки взять порт штурмом, но потерпел неудачу. 27 августа вражеская эскадра покинула порт и окончательно ушла в море. Ученики и кантонисты помогали защитникам города в отражении атак противника.
В 1855 г., получив известия о подготовке повторной экспедиции противника против Петропавловска-Камчатского, военный губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский приказал В. С. Завойко разоружить батареи, довооружить все суда и, погрузив на них имущество порта и гарнизон вместе с семьями, перейти в устье Амура.
Учебный год в училище был прерван 4 апреля 1855 г. Чины Морского училища были погружены на фрегат «Аврора», который 6 апреля вышел в море через прорубленный во льду канал. 25 апреля отряд добрался до Императорской Гавани и 5 мая перешел в залив Де-Кастри, т. к. Амурский лиман был еще забит льдом. Гарнизон, училище и пассажиров выгрузили на берег.
8 мая русская эскадра была обнаружена английскими разведывательными кораблями. Противник посчитал эскадру заблокированной и стал ждать подкрепления для ее уничтожения. 16 мая прибыла объединенная англо-французская эскадра из Хакодате. Однако в ночь на 16 мая, погрузив все ранее выгруженное обратно на корабли и воспользовавшись густым туманом, русская эскадра через Татарский пролив ушла в устье Амура, куда прибыла 24 мая. В оценке ледовой обстановки и проводке отряда принял непосредственное участие присоединившийся к отряду адмирал Г. И. Невельской66. Противник в то время считал, что Татарский пролив является заливом, и исчезновение русской эскадры для него стало полной неожиданностью.
Исходя из обстоятельств военного времени, главный порт Восточного океана был вновь перенесен – в Николаевск на Амуре, а училище по-прежнему находилось при главном порте. Таким образом, Охотское морское училище за три года было дважды перебазировано, что, естественно, совершенно не способствовало стабильности учебного процесса. Деятельное же участие генерал-губернатора Камчатки В. С. Завойко в обустройстве этого учебного заведения в Петропавловске и придании ему нового, более высокого статуса, к сожалению, так и не дало практического результата.
В Николаевске-на-Амуре училище поначалу разместили в специально выделенном помещении (занимавшем одну комнату), и сразу было начато строительство для него собственного здания. Исполнение обязанностей «директора Петропавловского Морского училища» временно было возложено на командира 47-го флотского экипажа и капитана Николаевского порта капитан-лейтенанта Н. Н. Назимова.