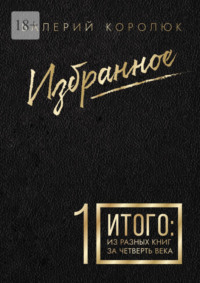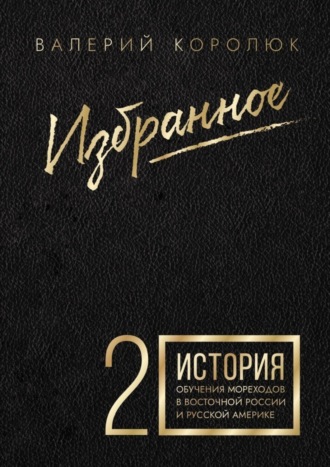
Полная версия
Избранное-2. История обучения мореходов в Восточной России и Русской Америке
Толчком к увеличению отечественного торгового тоннажа в тихоокеанском регионе стало строительство Транссибирской и Китайско-восточной железных дорог. Руководство последней поставило перед собой далеко идущие цели – обеспечить не только транзит грузов по железной дороге, но и их дальнейшую транспортировку морем. С этой целью создается Морское пароходство КВЖД89. Положение о нем было высочайше утверждено 12 июня 1898 г. Задача новой компании: «организация пароходного сообщения между портами русского Дальнего Востока и портами Китая, Кореи, Японии, а в перспективе – Америки и Европы», в том же году она приобрела в Англии три первых парохода90 (с 1 января 1900 г. правительство передало ей контракт на обслуживание морского сообщения между портами Приамурского края, Китая, Кореи и Японии, ранее заключенный с частным пароходством М. Г. Шевелева). В 1903 г. Морское пароходство КВЖД занимало 3-е место в России по объему грузоперевозок, к 1904 г. ему принадлежали 22 судна. Судовая компания КВЖД91 имеет уже четыре линии, связывающие столицу Приморья с Нагасаки, Шанхаем, Чемульпо, Гензаном, Фузаном и Порт-Артуром (после русско-японской войны эти линии отойдут Восточно-Азиатскому пароходству), однако состояние дел в ней уже тревожит многих:
«Что-то положительно непонятное творится в нашем Китайско-Русском пароходстве. В то время, когда японские и другие иностранные пароходы заваливают наш город рабочим китайским элементом – пароходы упомянутого выше пароходства ходят совсем пустые либо стоят на приколе»; «одним из печальных недоразумений нашей экономической политики на Дальнем Востоке является морское пароходство о-ва Кит. Вост. ж. д. в его нынешнем состоянии. Если немцы в их относительно юном Drang nach Osten успели уже довести здесь до такого совершенства деятельность своих морских и речных (по Ян-цзе) пароходских ллойдов, что с ними стали считаться англичане – эти исконные мореплаватели, – то мы за тот же период достигли лишь отрицательных результатов… Ведь одного только угля для Маньчжурской дороги, для Тихоокеанской эскадры, для Артура и Дальнего ежегодно ввозится к нам до полумиллиона тонн!.. А остальные потребности русского Дальнего Востока?.. Они тоже главным образом удовлетворяются иностранными рынками. Тут ли не широкое поле деятельности нашему торговому флоту? А между тем, в этом водовороте коммерческой жизни, бьющейся мощным пульсом, на наших глазах купаются иностранцы; мы же, раздевшись, стоим на лестнице нами устроенной купальни, похлопываем себя по бедрам и вздрагиваем от боязни холодной воды, бороздя ее ногами. И было бы, разумеется, не обидно, если бы купальня не обошлась так адски дорого».
Однако не будем забегать вперед… Что касается состояния российского флота в последнее десятилетие XIX века, то лишь в 1890 г.92 положением Военного совета были отменены законы, разрешавшие вступление в русскую службу иностранных офицеров93, а через год принято и законоположение о русском каботаже. Патриотически настроенный современник писал тогда:
«С 1856 г. начинается наше увлечение фритредерскими идеями, дошедшее до того, что мы нашли возможным заключить со всеми державами договоры, по которым обязались не давать у себя дома своим судам никаких преимуществ перед иностранными. Последствия такого направления политики в этом вопросе видны теперь до очевидности. Каботаж в Черном море до сих пор не может быть вырван из рук иностранцев, а русский торговый флот настолько незначителен, что не может быть и речи о конкуренции нашей с торговым флотом какой бы то ни было нации. Во всех наших портах развиваются все флаги, кроме русского, наши грузы вывозятся на всех судах, кроме русских! …Поэтому весть о заботе Министерства Финансов поддержать отечественный флот не может не производить глубокорадостного чувства. Обнаруженные же нынешним Министром Вышнеградским энергия и настойчивость в преследовании отечественных интересов дают уверенность в том, что вопрос о русском торговом флоте будет наконец поставлен на надлежащую почву».
В мировом судоходстве к тому времени активно функционировали 160 крупных94 пароходных компаний. И, хотя российский торговый флот за предшествующие 30 лет (с 1860 г.) почти удвоился по числу судов (до 2 361) и более чем утроился по тоннажу (до 811 411 т), а в российской таможенной политике наметился протекционизм отечественному судоходству, однако последнее все еще не могло занять лидирующее положение даже в собственной стране: иностранные суда зарабатывали в России до 60 млн руб. в год95, русские – на порядок меньше. «Необходимо при этом вспомнить, что все преимущества… на стороне иностранных компаний, суда которых не платят высокой пошлины, не несут значительных расходов на уплату консульских сборов и пр., не платят лишних денег в виде пошлин за каменный уголь, расходуют гораздо меньше на содержание команды и проч. Поэтому и конкуренция с иностранными судами в отношении дешевизны перевозки грузов для русского флота немыслима».
Во Владивостоке ситуация была не менее напряженной – за весь тот 1890 год в порт совершено лишь 28 заходов российских коммерческих судов и 8796 иностранных, при этом только 2 японских парохода компании «Nippon Jusen Kaisha»97, которая еще и получала дотацию от правительства Японии98, перевезли 22% грузов, прошедших через владивостокский порт.
В российских морях Восточного океана вовсю хозяйничали иноземцы: китайцы (манзы) «держали» ближний каботаж (почти все прибрежные морские и речные перевозки давно находились в их руках: манзовских лодочников было много, да и брали они за провоз гораздо меньше99 русских судоводителей, при этом никак не отвечая за безопасность пассажиров и груза при довольно частых крушениях своих «шампунок»100), немцы и японцы – дальний, а американцы били здесь китов101.
Из российских судов только пароход «Байкал» совершал более-менее регулярные (6 раз в навигацию) рейсы между Владивостоком и Николаевском, плюс пароходство Федорова держало привилегию на Суйфунской линии да пароход «Новик» купца Шевелева возил пассажиров и товары в Славянку, Посьет, Шкотово, Сучан, Речной и на Монгугай, однако частных грузов его пароходное товарищество не принимало. Даже английская Pall Mall Gazette свидетельствовала о полном застое дел во Владивостоке и почти исключительном преобладании иностранцев в местной торговле, но оговаривалась о появлении здесь русских торговых пароходов и китобоя.
Что же касается военного флота здесь, то Эскадра Тихого океана, руководимая вице-адмиралом П. Н. Назимовым, все лето проводила в учениях, а на зиму перемещалась в теплые порты Японии и Китая. Владивостокский порт под командованием контр-адмирала П. И. Ермолаева оставался лишь с десятком военных «плавсредств» (миноносцы «Янчихэ» и «Сучена», винтовая лодка «Бобр», шхуны «Алеут», «Тунгуз» и «Горностай», миноноски №90, 80 и 79, барказ «Польза», док да плавучий кран). Местная пресса так описывала ситуацию в этом порту:
«С каждым годом число плавающих судов сибирской флотилии уменьшается и в настоящее лето идет в кампанию только четыре: лодка „Горностай“ с промерной партией к заканчиванию работ в заливе Петр Великий, шхуна „Тунгуз“ – в обычный рейс на север к ограждению лимана реки Амур и снабжению маяков и шхуна „Алеут“ – с партией минного заграждения в одну из бухт, соседних с Золотым Рогом, для практических занятий. Затем, после Св. Пасхи, начнет вооружение лодка „Бобр“, назначенная заграницу и будет изготовлена в плавание к 1 мая». О коммерческих же судах она отзывалась вообще с безнадежностью: «…стоят они крепко на двух якорях и, как мы слышали, в плавание не идут; не идут потому, что, благодаря манзовской конкуренции, нет такой работы, которая в состоянии была бы окупить содержание стоящего командира и команды. Но надо видеть эту команду, нанимающуюся весною на частные шхуны, чтобы понять положение судохозяев и согласиться с ними, что с таким экипажем нельзя отпустить судно в море без риска потерять его, а потому действительно лучше сидеть на месте и ждать плодов нашей владивостокской морской школы…».
Всего одна из пяти каботажных шхун, стоявших на рейде – паровая шхуна «Котик» – смогла в 1890 г. выйти в Охотское море, причем командовал ею американец, бывший штурман китобойного барка «Ланцер», а из 17 человек экипажа лишь 2 матроса были русскими. Владелец «Котика», купец 1 гильдии Отто Линдгольм, пояснял: «относительно найма иностранцев нам кажется, что до запрещения такового нужно создать своих моряков для торгового флота, а то легко возможно (при существующей трудности найти командиров, особенно здесь), если только не удастся найти желающих из военного флота, оставить судно без начальника, и 3—4 судна, приписанных к здешнему порту, должны будут даже при самом „попутном ветре и добрых часах“ стоять в бездействии».
IV глава. Становление
Итак, в XIX в. России все-таки удалось заложить основу транспортной системы своего Дальнего Востока, оказавшей в дальнейшем огромное влияние на характер и интенсивность освоения его территории.
Но создание отечественного торгового флота здесь стало возможным только при непосредственном вмешательстве правительства. Потребность в подготовке собственных морских кадров уже начала ощущаться, однако развивающееся местное судоходство пока не имело другой возможности пополнения личного состава, кроме найма иностранцев или бывших военных.
Существенная задержка с созданием мореходной школы постепенно начинала приносить явный экономический урон и препятствовать развитию дальневосточного флота.
1. Распространение системы подготовки моряков на Восточную Россию
Мореходный класс I разряда в Тобольске (1883—1890 гг.). Морского ведомства военные школы и классы для нижних чинов, Портовая (Кадровая) школа (с 1878 г.). Александровские мореходные классы I и II разрядов (1890—1902 гг.) во Владивостоке.
К началу 70-х годов XIX века, когда, вслед за созданием правительственных комиссий по присвоению судоводительских званий в крупных портовых городах России, стала формироваться целая сеть мореходных классов для подготовки к сдаче экзаменов в них, за Уралом (в Сибири и на Дальнем Востоке) не осталось уже ни одного учебного заведения, готовившего кадры для флота.
Когда в 1876 году во Владивосток была переведена бывшая Охотская навигацкая школа (теперь – прогимназия), этим вопросом озаботился военный губернатор Приморской области и Владивостока контр-адмирал Г. Ф. Эрдман и ходатайствовал перед Комитетом министров об организации мореходных классов на вверенной ему территории102.
Мотивировал он это тем, что Приморская область для полного своего благоустройства требует значительных затрат со стороны правительства, и для поднятия уровня общего благосостояния края следует оказывать русским купцам содействие в перенесении торговой деятельности сюда (с целью развития торговли и промышленности), а также для образования местного торгово-промышленного русского флота, чтобы по возможности парализовать все более и более растущее влияние иностранцев, для чего необходимы как общие, так и частные меры. В число последних губернатор и ставил необходимость устройства мореходной школы.
До той поры военно-морской флот являлся едва ли не единственным источником пополнения кадров торгового флота на Дальнем Востоке103.
13 октября 1877 г. Департамент торговли и мануфактур Министерства финансов обратился с отношением к Морскому министру, прося отпустить морских офицеров для службы на коммерческих судах Дальнего Востока с сохранением части оклада, большего, чем в Европейской части. Морской министр С. С. Лесовский лично подписал ответ: «Коммерческий флот, без военного, могущего в надлежащих случаях оказать первому содействие и покровительство, никогда не сможет достичь должного развития. …Нам необходимо иметь достаточное число океанских крейсеров, для нанесения наибольшего вреда английской торговле в случае войны с этой державой. Только одно наше прибережье Восточного океана может сделаться тем надежным операционным базисом, который до сих пор мы надеялись найти в Америке и без которого немыслимы крейсерские войны, да и само существование военных крейсеров. Независимо от вышеуказанных доводов, я признаю эту меру крайне необходимой, еще и потому, что увеличивающееся могущество Японии непременно заставит нас в близком будущем значительно увеличить численность судов Сибирской флотилии и нам надо заблаговременно озаботиться, чтобы эта флотилия была обставлена возможно лучшими условиями для своего существования. На текущий момент: на основании Свода законов Российской империи изд. 1857 г., Т. XI, устава торгового флота ст. 873. Морское министерство по мере возможности отпускает офицеров Морского министерства для службы на судах купцов 1 и 2 гильдии и акционерных обществ. Назначение и возвращение на службу определено ст. 873—875 устава Торговли. В настоящее время Морское министерство испытывает огромную нехватку офицеров, и увольнение их в торговый флот приостановлено генерал-адмиралом. Возможно увольнение только штаб-офицеров флота и корпусов. В Сибирской флотилии и так не хватает, а при переводе с Балтийского и Черноморского флотов Морское министерство не в состоянии платить за перевод, но не возражает, если это будут делать судовладельцы или казна».
Морское министерство, как никакое другое, было заинтересовано в развитии и хозяйственном освоении Дальнего Востока. При этом особенно важно было создание тут коммерческого флота и подготовка кадров для него. По мнению Н. А. Колотова, «отечественный флот требовал создания своих высококвалифицированных местных морских кадров, привыкших к суровым климатическим условиям Дальнего Востока, с его неумолимыми жестокими штормами, стойкими и густыми туманами, неисследованными течениями, замерзающими районами, сотнями открытых рейдов и т.п., часто являвшихся причиной гибели для многих и многих русских и иностранных судов».
Развитие процесса колонизации края, необходимость его изучения и освоения, включение дальневосточных окраин в общероссийскую систему экономических отношений, политических и культурных связей вызывали потребность не только в увеличении числа грамотных людей из непривилегированных сословий, но и в подготовленных специалистах для работы в различных отраслях хозяйства и транспорта.
13 октября 1877 г. Департамент мануфактур и торговли Министерства финансов ответил Приморскому губернатору, что одобряет мысль об учреждении мореходного класса, но по закону «таковые классы могут быть учреждаемы в местностях, в коих местные городские, сельские или другие общества или учреждения, сознавая пользу от этих классов, примут на себя инициативу учреждения этих классов, при чем заявят готовность содействовать делу принятием на свой счет хотя отчасти расходов, необходимых для классов; Правительство же, с своей стороны, может оказывать поддержку назначением на классы пособия от казны, в размере до 1 000 рублей в год на каждый. За сим, если будут заявлены предложения об учреждении мореходного класса в Приморской Области, на изъясненных основаниях, то со стороны Министерства Финансов не встретится затруднений к исходатайствованию пособия из казны на означенный класс и к утверждению положения и штата о сем классе». То есть, государство не отказывало полностью в своей поддержке, однако предлагало местным жителям самим взять на себя инициативу и основную часть расходов по содержанию морского учебного заведения.
Однако, никаких объективный условий (включая материально-экономические и людские ресурсы) для создания собственной морской школы во Владивостоке в то время еще не было, и губернатор делал свое предложение на перспективу, заглядывая далеко вперед.
Через два года областная власть обратилась к владивостокскому городскому голове с предложением:
«Министерство внутренних дел.
Приморское областное управление.
Отделение II.
Стол I.
Июня 28 дня 1879 года. №2069.
В публичном чтении Советником Андреевым в Николаевске, напечатанном в извлечении в столичных газетах, сделано изъясненным содержание прилагаемого при сем отношения Департамента Мануфактур и торговли о мореходных школах. Препровождая это отношение с двумя предложениями покорнейше прошу сделать его по возможности известным гласным Думы и жителям Владивостока в тех видах, чтобы вызвать учреждение мореходных классов во Владивостоке. По миновании надобности в них приложения прошу возвратить.
За Губернатора – Старший Советник Лиси (чкин? – авт.).
Управляющий Отделением (подпись неразборчива – авт.)».
Сей документ получен был городским головой 24 ноября (вх. №450). Ознакомившись с ним, Михаил Кузьмич поставил визу: «Сделать известным и доложить думе. М. Федоров».
29 ноября того же года к Владивостокскому городскому голове обратилось и Императорское Общество для содействия русскому торговому мореходству, с предложением «употребить свое содействие к открытию мореходных классов с шхиперским и судостроительным отделением и ссудосберегательного товарищества в городе Владивостоке, для развития русского торгового мореходства на Восточном океане». 2 февраля и 10 июля 1880 г. этот вопрос рассматривался на заседаниях Владивостокской городской Думы, которая вынуждена была создать специальную комиссию «по открытию мореходных классов или школы во Владивостоке».
Через некоторое время комиссия составила заключение, что для развития торговой деятельности в Приморской и Амурской областях желательно открытие мореходных классов III разряда в одном из городов этих областей, чем оказывалось бы и содействие общему образованию в крае, из-за недостаточного числа здесь образовательных учреждений. Но, «принимая во внимание молодость, небогатое состояние и не вполне еще установившееся положение даже таких более выдающихся в крае городов, как Владивосток, Николаевск и Благовещенск», комиссия не посчитала возможным, чтобы содержание мореходных классов даже при субсидии от Министерства Финансов могло быть взято на себя «одним которым-либо из этих городов, потому полагает, что осуществление этой идеи возможно лишь при коллективном содействии их всех и непременном и полном участии от морского ведомства, при чем, естественно, местом учреждения классов обязательно должен быть выбран Владивосток, как главное учреждение морского ведомства на поморье Восточного Океана; вместе с тем комиссия не может не согласиться, что по примеру существования некоторых классов в России, в денежном участии по содержанию во Владивостоке классов должны быть сделаны также обязательными членами и все существующие в крае мореходные компании», определив «содержание расходов» на классы по 5000 руб. в год.
По словам одного из гласных городской Думы, «комиссия в предварительных соображениях своих, предусмотрительно позаботясь и о двойной порции чая, и об однообразной форме галанок и фуражек, очевидно упустила из виду русскую пословицу об участи ребенка у семи нянек, и не думала как о неудобоисполнимости своих широких предначертаний, идущих вразрез с существующим положением о таковых классах, так и о положении будущих классов, зависящих от трех министерств и от городской Думы впридачу; не подумала, что она затрудняет благоприятное решение вопроса, ставя его в зависимость от согласий трех министерств сразу».
В связи с этим генерал-губернатор Восточной Сибири Д. Г. Анучин тогда же обратился к подчиненным ему губернаторам с предложением открыть подписку на учреждение мореходных классов; еще через год он послал личные циркулярные письма к главам городов Восточной Сибири с просьбой пригласить городские общества к денежным пожертвованиям на эту цель. Мысль встретила сочувствие и поддержку среди местного населения, в результате чего объявленная денежная подписка на открытие мореходных классов только во Владивостоке в первые же дни собрала 550 руб. Пожертвования на классы поступили также из Хабаровки, из Софийского округа, с Сахалина и из Гижиги. Товарищество Амурского пароходства тоже ассигновало на мореходные классы ежегодную субсидию в 400 руб., – с условием, что определенное количество воспитанников каждую навигацию будет назначаться для плавания на его судах по Амуру и Шилке.
26 февраля 1880 г. на традиционном Амурском обеде в Санкт-Петербурге104 было постановлено: капитал, образовавшийся из ежегодно собиравшихся на этих обедах пожертвований, направить на учреждение мореходных классов во Владивостоке и в память 25-летия царствования императора Александра II105, которому Амурский край обязан своим присоединением к России и развитием, назвать эти классы «Александровскими».
Таким образом уже к 28 сентября 1881 г. удалось собрать 6 286 руб., кроме ежегодной субсидии в 600 руб. от Владивостокской городской управы и 400 руб. от Амурского пароходного товарищества. К 1884 г. собранный на Владивостокские мореходные классы капитал составил 9 289 руб. 16 коп., а две существовавшие в то время в Сибири пароходные компании назначили классам ежегодные денежные субсидии в течение 5 лет по 300 (Кяхтинское пароходное товарищество) и 200 (Амурское пароходное товарищество) руб.
В феврале 1882 года городская управа представила Владивостокскому губернатору окончательно выработанный проект Положения мореходного класса имени Императора Александра II106, составленный избранной в январе специальной думской комиссией, при участии директора местной прогимназии107 и начальника гидрографической части Восточного океана.
19 февраля 1883 г. генерал-адъютант Шестаков от имени Морского ведомства сообщил генерал-губернатору Восточной Сибири, что он не разделяет мнения о насущной для края потребности в учреждении подобного класса, но «если министерство финансов найдет возможным осуществить проект об учреждении в городе Владивостоке мореходного класса, то со стороны морского ведомства не встретится препятствий к тому, чтобы суда Сибирской флотилии служили практическою школою для учеников класса».
И только в 1889 г. Государственный совет Российской Империи, в Департаменте государственной экономии, рассмотрев представление министра народного просвещения, вынес постановление «отпускать из Государственного казначейства, начиная с 1-го января 1890 г., по две тысячи-пятисот руб. в год на содержание учреждаемых в городе Владивостоке, Приморской области, мореходных классов 1 и 2 разрядов, обратив в счет этой суммы кредит в одну тысячу руб. в год, ассигнуемый ныне на содержание подлежащего закрытию мореходного класса в г. Тобольске и присвоить владивостокским мореходным классам наименование „АЛЕКСАНДРОВСКИХ“», о чем губернатор Приморской области 18 ноября сообщил всем городским и окружным полицейским управлениям и должностным лицам области, а городскую управу Владивостока проинформировал, что от Министерства народного просвещения через Амурскую казенную палату уже перечислены первые 2,5 тысячи рублей, «назначенных Министерством в пособие Владивостокским мореходным классам. В виду сего имею честь просить Городскую Думу приступить к учреждению».
Упомянутый в постановлении Госсовета Тобольский мореходный класс I разряда был создан «частично на казенные средства, частично на средства городские и частные» в 1883 г. (с «Высочайшего повеления об открытия мореходного класса в г. Тобольске» от 2 мая 1880 г.), на базе открытой еще в 1754 г. геодезической школы (вместо ранее существовавшей там цифирной школы, в 1722 г. насчитывавшей 224 ученика), имевшей давние связи и с навигаторами… К примеру, 5 учеников ее, «обученных арифметике и геодезии», в 1755 г. приехали вместе с петербургским штурманом М. Татариновым пополнять ряды Иркутской навигацкой школы («к определению в предморскую службу»), а через 3 года 6 из 11 выпускников последней были «отправлены в Тобольск геодезистами».
Официальный доклад «Об отпуске правительственного пособия на содержание мореходного класса в г. Тобольске» начинался с изложения ходатайства генерал-губернатора Западной Сибири А. П. Хрущева, к которому прилагалось уведомление министра народного просвещения о согласии на учреждение класса: признавая учреждение мореходного класса полезным, министр финансов «Всеподданнейше испрашивал Высочайшее Его Императорского Величества соизволение на отпуск из Государственного казначейства средств на содержание мореходного класса». Этот доклад (с подписью автора, министра финансов Грейга, заверенной печатью учреждения, и с резолюцией от руки: «Высочайше разрешено»), по-существу – единственный известный источник, который законодательно закрепляет открытие Тобольского мореходного класса.
Тобольский мореходный класс I разряда просуществовал до 1890 г.108 и никакими особыми заслугами не отмечен. По-видимому, он готовил судоводителей-речников (штурманов каботажного плавания) для работы в Обь-Иртышском бассейне (Западная Сибирь). В 1884 г. в этом классе числилось 15 учеников, 1885 г. – 24 (по др. данным – 18 учащихся), 1886 г. – 21, 1887 г. – 20, 1888 г. – 5, а перед закрытием в 1889 г. – всего один.