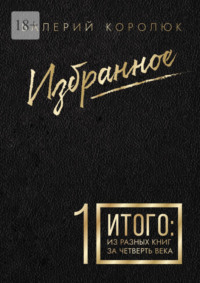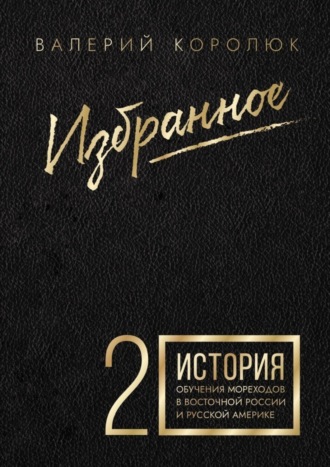
Полная версия
Избранное-2. История обучения мореходов в Восточной России и Русской Америке
Успеваемость в цифирных школах была очень низкая. Из 1 389 учеников с 1714 по 1722 гг. их окончили только 93.
Можно сделать вывод о том, что созданная Петром I военно-морская школа положила начало первой в России общенациональной системе образования. Уже к 1725 г. в стране действовали 51 цифирная, 56 гарнизонных и 46 епархиальных школ, ряд ремесленных школ, школы для подъячих и медиков, военные артиллерийская и инженерная школы, навигацкая школа и Морская академия. При этом даже после смерти Петра I Адмиралтейство продолжало заведовать цифирными школами, а по существу – всем народным образованием. 21 июня 1731 г. сенат издал указ «О произвождении жалования учителям циферных школ и об оставлении сих училищ по-прежнему в ведомстве Адмиралтейств-коллегий».
Д. Ден характеризует Российский флот и русских моряков в 1724 г. следующим образом: «Так как прошло около двадцати лет с тех пор, как царь начал строить и вооружать свои корабли, он теперь имеет достаточное количество людей довольно опытных в деле оснащения кораблей и в исполнении вообще всех обязанностей моряка на суше и во время стоянки в гавани, но они все-таки не слишком хороши в открытом море, и огромная нужда в опытных матросах перевешивает все другие трудности, с которыми царю приходится бороться. …Корабельных мастеров у него достаточно, а также и флагманов разных рангов; недостающее незначительное количество капитанов и поручиков может быть пополнено в кратчайший срок повышением в следующие чины его собственных подданных, которые давно уже считают всех иностранцев излишними и посмеиваются над их опытностью. За последние три года многие из них действительно получили повышения, с тех пор как царь, возымев слишком высокое мнение о силе своего флота и способностях своих соотечественников, стал менее строго присматриваться к поведению и способностям этих молодых людей. Это повело ко всевозрастающему злу такого рода, что их наставники стали неоправданно выдавать им свидетельства о приобретении надлежащих познаний». По сведениям Д. Дена, тогда же был прекращен прием иностранных матросов на русский флот, а среди офицеров «в следствии особого распоряжения царя, командиры и все занимающие должность выше штурманов, должны быть русскими». Он же приводит список приготовленных к выходу в море кораблей Балтийского флота в навигацию 1721 г., командирами на которых из 29 указывает 8 россиян; по его же данным, к 1724 г. среди командиров кораблей насчитывалось уже 18 россиян.
Гардемаринская рота Морской академии в 1724 г. была сокращена до 200 человек, остальные 100 выпускников стали назначаться штурманскими учениками на корабли, – так было положено начало разделению военно-морского образования на штурманское и командирское.
Таким образом, организованная Петром I система морского образования в 1701—1724 г. являлась ведущей частью национального образования, фундаментом не только народного образования, но и профессионального, специального и духовного. Именно создание этой национальной системы позволило в короткий срок подготовить офицеров для военно-морского флота, которые уже к концу правления Петра I начали вытеснять иностранцев не только с первичных флотских должностей, но и с должностей командиров кораблей и флагманов.
К 1731 г. (когда было положено начало образованию на Дальнем Востоке) в России уже сложилась национальная система морского образования, элементами которой являлись навигацкие школы и Морская академия. С 1696 по 1731 гг. был накоплен достаточный опыт подготовки национальных флотских кадров, позволивший замещать ими должности командиров кораблей и адмиралов, отказавшись от услуг иностранцев-наемников. Но за шесть лет после смерти Петра I боеготовность флота резко упала, мирное время потребовало изменений в подготовке офицеров, одновременно возникли дополнительные возможности для изучения и военно-хозяйственного освоения Сибири и Дальнего Востока, задуманного и начатого еще при Петре I.
В последние годы правления Петра I и некоторое время после его смерти положение Российского флота было нелегким. Двадцатилетняя Северная война легла тяжелым бременем на экономику страны. Численность созданных в ходе войны регулярных армии и флота необходимо было приводить к реалиям мирного времени. Опыта таких мероприятий не было, т.к. до начала войны армия состояла из стрельцов. По докладу адмирала П. И. Сиверса Сенату от 13 августа 1731 г., «гардемарины многие имеются в службе по 15 лет, и по их наукам к произведению достойны, но за неимением мест в комплекте, произвести невозможно». Для уменьшения количества флотских офицеров адмирал просил уменьшить число учеников: «в навигацкой школе в нынешнее мирное время содержать учеников в Москве – 100, в Санкт-Петербурге – 150, а прочих годных определить в службу Адмиралтейскую, а других в Военную коллегию отдать». Сенат утвердил прошение «по тексту адмирала».
Одновременно Анна Иоанновна 18 ноября утверждает Устав Кадетского корпуса (а 4 декабря 1731 г. был объявлен и указ о записи учеников в него), который создается с целью обучения и воспитания дворян за счет казны. Кроме того, правительствующий Сенат издал ряд указов, направленных на улучшение подготовки гардемаринов, в том числе – «Об определении нерадивых кадетов Морского корпуса по достижению 16 лет в матросы, о чтении сего указа кадетам дважды в неделю» от 30 марта 1737 г. и «Об испытаниях кадетов два раза в год, 15 марта и 15 сентября, какого бы возраста они не были» от 6 июня 1737 г.
2. Первые попытки распространить обучение на дальневосточную территорию
Навигацкие школы в Восточной Сибири (1731—1849 гг.) – Охотская, Якутская, Иркутская и Нерчинская.
Преемники Петра I продолжили начатое им изучение и описание Сибири, Дальнего Востока и Аляски, для чего был послан ряд экспедиций. Одной из самых известных стала Первая камчатская экспедиция (1725—1730 гг.) под командованием В. Й. Беринга. В ней российским исследователям пришлось столкнуться со многими трудностями, одна из которых – недостаток грамотных людей, которые в далекую Сибирь шли с крайней неохотой. Местное же население, особенно казаки, вполне могли заменить часть матросов, но не обладали необходимыми для этого познаниями и навыками. Кроме того, из-за отсутствия здесь школ и учителей дети чиновников местной администрации также не получали необходимого образования, что косвенным образом сдерживало хозяйственное освоение Сибири6.
Беринг, по возвращении в 1730 г. из экспедиции, подал императрице докладную (памятную записку), в которой особо отметил, что «необходимо для морского пути обучать молодых казачьих детей всякому морскому обыкновению. И ежели бы оное учинилось, то бы и отсюда посылать не надобно, а на всякое судно довольно по 12 или 15 человек для науки». Его поддержал и Сибирский приказ, просивший открыть навигацкие школы в Сибири. 29 апреля 1731 г. правительствующий Сенат дал указание Сибирскому приказу подготовить на этот счет надлежащие инструкции.
Одной из первоочередных задач правительства было военное освоение Дальнего Востока, в особенности Камчатки. Необходимо было создать на этом полуострове военный гарнизон и обеспечить его припасами, в первую очередь хлебом. Для чего требовалось создать порт на материке, в котором должна базироваться снабжавшая Камчатку транспортная флотилия. Единственным из известных и подходящих для этого мест в то время был Охотск. А посему 10 мая 1731 г. императорским Указом создается Охотский порт, командиром которого назначается находящийся в ссылке в Жиганске бывший генерал-майор и обер-прокурор Сената (а до этого – директор Морской академии в Санкт-Петербурге, преподававший в ней артиллерию и механику) Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев.
Инструкция, высланная ему Сибирским приказом вместе со специальным Указом от 22 июля 1731 г., гласила: «По Ея Императорскаго Величества Указу быть тебе в Охотске и чинить по ниже писанным пунктам». А 21-й пункт этой инструкции сообщал, что «штурманов человек трех и матросов человек шесть велено послать из адмиралтейства, к которым придать из казацких детей молодых и обучать морскому ходу, дабы там своих штурманов и матросов завесть», в 23-м пункте предписывалось «в Охотске хотя бы народную школу не для одной грамоты, но и для цифиры и навигации завесть тебе, Писареву, и жалование малое для содержания учеников давать, из чего могут люди к службе знающие возрастать, а не дураками оставаться».
Годом позже в Сибирь прибывают посланные от Адмиралтейств-коллегии для службы в Охотске штурманы Иван Бирев, Софрон Хитрово и Авраам Дементьев с шестью матросами, которым велено «обучать матросской должности» детей охотских казаков. Вот только добраться до места назначения они никак не могут и застревают в Якутске7, ибо первый охотский начальник, сосланный сюда за участие в заговоре, не слишком торопится исполнять монаршью волю.
Теперь широко распространено мнение8, что Г. Г. Скорняков-Писарев так и не исполнил указание императрицы. Он лишь в начале 1732 г. прибыл в Якутск, где начал готовить команду, снаряжение и провиант для Охотска. С якутским воеводой Ф. Жадовским отношения у него не сложились, произошло несколько ссор. И только 30 августа 1735 г. Скорнякову-Писареву довелось добраться до Охотска… Там в это время уже около года находился представитель Второй камчатской экспедиции9 М. П. Шпанберг, подчинивший себе все службы и администрацию порта. Взаимные претензии и дележ властных полномочий закончились тем, что «капитан полковничьего ранга» Шпанберг крепко побил экс-генерал-майора и полноту власти оставил за собой. До школы ли тут им было? Однако создатель фундаментального «Исторического обозрения Сибири» П. А. Словцов приводит другие данные: «Правда, что начало Охтинской10 навигацкой школы, в которой полагалось учить грамоте, арифметике, навигации и другим вспомогательным предметам, относится к 1732 г. но по малому числу морских детей и по недостатку наставников, школа могла оказать успехи низшей степени».
Информация эта – одна из первых в историографии11 и во многом опирается на документы, которые не сохранились для последующих исследователей. Исходя из чего, следует, наверное, отнести всё-таки открытие Охотской школы к 1732 г.12, при этом на начальном этапе становления она была, безусловно, сугубо общеобразовательной, а не мореходной.
Есть ещё информация, что в 1734 г., будучи проездом в Иркутске, Беринг нанял учителем для Охотской школы ссыльного протонотариуса юстиц-коллегии Гейдерейха (с жалованьем 150 руб. из сибирских доходов). Не желая, чтоб тот находился без дела, он поручает Гейдерейху открыть пока школу в Якутске – для обучения малолетних казачьих детей арифметике, геометрии, тригонометрии и навигации. Но, когда дело дошло до изучения последней, учитель отказался от ведения занятий.
Однако другие источники сообщают, что навигацкая школа в Якутске была открыта в 1736 г. советником Адмиралтейства и специальным уполномоченным Адмиралтейств-коллегии лейтенантом В. И. Ларионовым, но обучение в ней началось только в 1739 г., когда Ларионову удалось набрать насильно 110 казачьих детей в возрасте от 6 до 15 лет, из которых к 1744 г. остались в учебе лишь 25. В 1746 г. Якутская школа была закрыта из-за нефинансирования, но в 1766 г.13 в нее вновь набрали 40 учеников – из дворянских и казачьих детей, с определением каждому из них жалованья по 1 руб. 80 коп. в год и по пуду провианта на месяц. К 1777 г. в этой школе осталось лишь 22 ученика (14 из которых – в старших классах навигации), науки преподавал единственный учитель – штурманский ученик Турчанинов, сведущий в арифметике и геометрии, но навигацию знающий слабо, лишь до ведения морского журнала. В 1783 г. финансирование опять было прекращено, с передачей Якутской школы в ведение иркутского Приказа общественного призрения. В 1791 г. состоялся последний (срочный) выпуск ее учеников, а в 1792-м решением иркутского генерал-губернатора И. А. Пиля школа была окончательно закрыта – «за неимением средств».
В 1739 г. вместо не справившегося со своими обязанностями Г. Г. Скорнякова-Писарева императрица Анна Иоанновна указом от 13 апреля назначила командиром в Охотск другого ссыльного, А. М. Девиера14. Новому командиру порта было предписано «по прибытию в Охотск сменить Писарева. И поступать во всем по его инструкции. А Писарева, по смене, держать под арестом». Последнего приказали предать суду, что и было исполнено.
Девиер активно занялся и делами Охотской школы. В 1740 г. он отобрал туда для обучения 30 детей разных сословий и назначил учителем попа-расстригу Якова Самгина, который, по его мнению, «весьма тому достоин и в учении искусен». 3 декабря 1740 г. был издан повторный императорский Указ: «в Охотске, отобрав детей разных сословий, 20 человек, не старше 12 лет, записать их на полную службу, с жалованием и хлебным довольствием и учить их грамоте, рисованию и арифметике». Указ был получен в Охотске 16 апреля 1741 г., к тому времени в школе числился 21 ученик, некоторые уже учили арифметику, однако навигацкой она еще не была, да и не могла быть – за недостатком учителей да из-за полной безграмотности учеников; точнее будет называть ее просто «народной».
1 декабря 1741 г. Девиер и Скорняков-Писарев были амнистированы очередной императрицей, Елизаветой, и возвращены из ссылки15 в столицу. Новый командир Охотского порта16 премьер-майор Афанасий Никитич Зыбин 27 августа 1748 г. просит Сибирский приказ «для обучения команд Охоцкого порта служащих детей цифири и некоторой части геометрии прислать в Охоцк одного человека студента искусного и те науки знающего снабдя его книгами арихметикой и геометрией и с принадлежащими к тому инструментами… дабы здесь команд Охоцкого порта служителей дети без обучения не остались дураками, и по употреблению в службе ея императорского величества могли всегда годны быть». Постоянной проблемой школы до сих пор являлся недостаток учителей: навигации учить вообще было некому, т.к. ни поп-расстрига Самгин, ни сменивший его затем «студент камчатской духовной свиты» Каншигин17 «далее арифметики» наук не знали и потому научить им не могли.
В 1753 г. губернатором Сибири был назначен генерал-поручик Василий Алексеевич Мятлев, внесший большой вклад в развитие морского образования на Дальнем Востоке18. Новый губернатор обратился в Сенат с ходатайством о заведении навигацких школ также в Иркутске и Нерчинске. По получении проекта В. А. Мятлева, Сенат 22 июля 1753 г. за №204 указал «завести в Иркутске, а главное в Нерчинске, навигацкую школу… и вообще для всех предметов землеописания и мореплавания, школы ныне завести, в которых обучать геодезии и навигации детей чиновников, дворянских, сын боярских, морских, адмиралтейских, солдатских и казачьих, сколько признано будет нужно». Собственно, именно эти-то две школы и стали первыми по-настоящему морскими учебными заведениями в Восточной России.
Задачей новых школ была подготовка кадров для предстоящей Амурской (Нерчинской секретной) экспедиции19 – с целью перехода по Амуру и переноса Охотского поста в его устье, Сенат своим Указом №393 от 28 декабря 1753 г. распорядился произвести экспедицию, но, не получив от Китая разрешения на проход судов по Амуру, от переноса Охотского поста отказался, посчитав это политически несвоевременным. Ближайшей же задачей экспедиции являлось создание в Нерчинске речной флотилии, изучение устья Амура, строительство здесь порта и верфи для дальнейшей организации беспрепятственного плавания по Амуру и морем к Охотскому и Удскому острогам и в «протчие нужнейшие российские по Северо-восточному морю места». По ходу экспедиции предусматривались гидрографические исследования рек Амура, Аргуни, Ингоды, Шилки, Нерчи и Онона, составление карт, описание и оценка лесов, пригодных для строительства судов в бассейнах этих рек.
В 1754 г. в Иркутске была создана адмиралтейская команда (через 10 лет – адмиралтейство, которое было упразднено лишь в 1839 г.), в составе которой к началу мая 1756 г. состояли 35 морских и адмиралтейских служителей. 1 августа 1754 г. прибывший в Иркутск начальник Амурской экспедиции Федор Соймонов20 и присланный из Морской академии младший учитель навигации Иван Бритов21 открыли в Иркутске (на базе существовавшей с 1743 г. школы для подготовки геодезистов) школу навигации и геодезии, которая стала здесь первым учебным заведением, фактически выпускавшим штурманов не только для военного, но и для торгового флота.
Смотрителем ее (1754—1756 гг., с жалованьем 300 руб. в год «по его морской практике и искусству») был назначен22 отставной флотский чиновник 7-го класса М. Есипов, науки преподавали подпоручик А. Юсупов (в 1759—1760 г.), прапорщик И. Бриттов23 (с жалованьем 120 руб. в год), штурман М. Татаринов24 и три японца, обучавшие будущих мореходов Восточного океана своему языку. В Иркутскую школу было определено 50 учеников25, они получали провиант, обмундирование26 и жалование27 по окладам Морской академии. Для учащихся, переведенных из Тобольска (рота из 5 человек), сделали исключение: они получали повышенное содержание28, т.к. уже выучили «цифиру» (арифметику и геометрию) и по высоким знаниям своим были определены в «предморскую службу».
На плане города, составленном штурманом М. Татариновым через 13 лет, одноэтажное бревенчатое «вновь построенное» здание обозначено как «школа навигацкая я гарнизонная» (скорее всего, в нем располагались обе эти школы), рядом находятся дома обывателей, магазины (т.е. склады), дом батальонного командира и «вновь строящиеся» солдатские казармы, «вновь построенный тюремный острог и госпиталь с баней и кухней», а также сад и незастроенное место, предназначенное для стекольного завода. Навигацкая школа располагалась тогда за главной линией города (сегодня это самый его центр), в районе Солдатской слободы, при пересечении улиц Большой и Амурской (ныне – ул. В. Ленина и К. Маркса), примерно в том месте, где теперь располагается установленный в 1952 г. памятник «вождю мирового пролетариата».
В сентябре 1754 года Ф. И. Соймонов открыл навигацкую школу и в Нерчинске. Штат ее был определен в 70 учеников. Поначалу там преподавал сам Соймонов, с 1756 г. до марта 1759 г. – «подмастерье в поручичьем чине» Юсупов29, потом – Бритов (который до того был учителем Иркутской школы). В августе 1756 г. здесь числилось 35 учеников, в 1757 г. – 59, большинство из которых, изучив геодезию, направлялось для работы геодезистами в Нерчинский горный округ, до изучения навигации доходили лишь единицы. За 9 лет существования эта школа обучила 140 человек, 3 из которых поступили в ученики ластовых судов, 36 – в канцелярию горного ведомства, 6 лучших были отправлены в экспедицию П. К. Креницына, 7 – в обучение различным мастерствам, 23 – в драгуны и 13 – в Нерчинские заводы. В августе 1765 г. Нерчинскую школу закрыли30, влив числившихся в ней 39 учеников в Иркутскую навигацкую школу, а И. Бритова назначили директором последней. С того же года все сибирские навигационные школы были переданы в ведение губернаторов.
Некоторые исследователи указывают, что якобы в 1758 г. была открыта некая навигацкая школа и в Томске – как начальная школа с профессиональным уклоном, однако никаких подробностей при этом не сообщают и конкретных ссылок на источники не дают. В архивах же найти подтверждение такой информации до сих пор не удалось31. Впрочем, само это событие представляется маловероятным еще и потому, что в том же 1758 г., в связи с окончанием работ Амурской экспедиции, Адмиралтейством был прекращен отпуск средств на содержание даже Иркутской навигацкой школы, и она продолжала существовать на местные средства.
В 1758 году по приказу Ф. И. Соймонова, за год до того назначенного генерал-губернатором Сибири, в Охотск были направлены «штурманами и для обучения» 5 из 11 первых выпускников Иркутской навигацкой школы (в том числе двое – непосредственно преподавателями), в 1759 г. – еще 11 из 32. За период 1754—1768 гг. Иркутскую школу окончили 192 человека, значительная часть из которых «отправлялась в Охотский порт штурманами на казенные и партикулярные суда, из коих последние принадлежали разным купцам, составившим частные компании и производившим разные промыслы на островах, открываемых в Восточном Океане».
С учреждением в 1783 г. в Иркутске наместничества, школа поступила в ведение Приказа общественного призрения, а управление ею было поручено губернскому землемеру. Содержалась она на средства от пошлинной торговли. К 1787 г. в Иркутской школе навигации и геодезии прекращается набор учеников, нет ни одного учителя навигации32. Через 3 года в ней числятся 40 учеников, на содержание которых отпущено из государственной казны 1 506 руб., и 200 руб. дополнительно – на содержание хозяйства (дрова, бумага). В 1795 г. эту школу, в составе 22 учеников, присоединяют к Главному народному училищу33 города34, прекратив занятия навигацией из-за отсутствия «особых учителей» (но официально упраздняют лишь в 1812 г.35, по указанию сибирского генерал-губернатора). За время своего существования Иркутская школа подготовила более 340 штурманов и штурманских учеников для военного и гражданского флотов36.
Все навигацкие школы Восточной Сибири готовили специалистов для Охотского порта. Однако очень немногие ученики осваивали курс наук полностью. Большинство назначалось исполнять различные чиновничьи должности. В. А. Мятлев лично проверял ход учебного процесса в школах и экзаменовал учеников. Во многом благодаря ему ученики сибирских школ быстро добились заметных результатов (к сожалению для морского образования, с началом Семилетней войны Мятлев был возвращен на запад страны37 для продолжения службы). В 1755 г. он предписал начальнику морской части Охотского порта лейтенанту В. А. Хметевскому: из числа лучших учеников Охотской школы приготовить 10 человек «так, чтобы они, будучи в обучении, могли для надобных здесь к мореплаванию служителей вступить в навигацкие науки» (как это было задумано еще Берингом для его Камчатской экспедиции), и 27 мая приказал иркутскому вице-губернатору немедленно послать в Охотск для навигационных учеников «потребного числа арифметик, логарифмов, аспидных досок, карт меркаторских и плоских, циркулей и одного квадранта». В 1756 г. все это было доставлено в Охотск, и со второй половины того года школа приступила к изучению собственно морских дисциплин, т.е. стала подлинно навигацкой.
С 1756 по 1758 г. навигаторов готовили охотские штурмана, а в последующие годы обязанность эту исполняли выпускники Иркутской навигацкой школы. С 1760 г. преподавать в Охотской школе назначен был лейтенант И. Б. Синдт, после него – лейтенант А. М. Юрлов, штурман В. Кожевин, подштурманы Софьин и М. В. Неводчиков38. Это были участники многих походов и экспедиций, настоящие моряки-практики – о них и таких, как они, написано: «решительна предприимчивость почтенных соотечественников наших, кои заменяли недостаток познаний отважностью и непоколебимой твердостью духа».
Вообще-то, деятельность Охотской школы во многом зависела от субъективных факторов, основным из которых можно считать личность каждого нового начальника порта. Если, к примеру, с 1764 по 1772 год при полковнике Ф. Х. Плениснере школа функционировала успешно, то при сменившем его полковнике В. Зубрицком, который пьянствовал и картежничал, она пришла в значительный упадок.
Отчетом 1767 г. зафиксировано, что в Охотске производится денежное содержание 15 штурманским ученикам – по 54 руб. годовых, 6 навигацким – по 18 руб., 5 ученикам (лекаря?) – по 12 руб. 60 коп., 2 ученикам (ластовых судов?) – по 120 руб., 2 парусным ученикам – по 30 руб. и 1 блоковому ученику – 72 руб. В 1772 г. Сенатом было предписано вытребовать к имеющимся в Охотске 3 штурманам, 3 подштурманам, 2 штурманским ученикам и 3 навигацким ученикам потребное число штурманских учеников из Якутской навигацкой школы. В 1776 г. в Охотске числилось «учеников навигацкой школы – 20, школьников – 20».
По ходатайству нового начальника порта отставного капитан-лейтенанта С. И. Зубова39, уделявшего школе должное внимание, в 1777 г. был утвержден штат на 20 учеников (до того вообще никаких штатов не было, и назначения туда производились «по мере требования и имеемых средств»), с производством им жалованья по 54 руб. в год каждому, и созданы классы для обучения детей нижних чинов. Осуществляя первый выпуск морских специалистов, двух лучших из них он выпустил в штурманские ученики, укомплектовав школу по новому штату. В 1780 г., когда наводнение разрушило город, навигацкая школа была временно переведена в Гижигу, где функционировала до 1785 г.
Сменивший С. И. Зубова коллежский асессор Бензинг также деятельно занялся делами школы40. В ноябре 1780 г. он доносил губернатору о положении дел и своих шагах по наведению порядка: «В Охотской же навигацкой школе как для познания основания православной веры, так и вкоренения нравоучения всеобщего и других наук не имеется приличного и достаточного числа книг, а некоторые, хотя для научения навигации и имеются, только по долговременному употреблению их пришли в ветхость и негодность; сама же школа находится в больничном доме». Школа переводится им в дом умершего поручика Никонова, для нее приобретаются новые учебники. Он же отдает распоряжение: «Над обучающимися в навигацкой школе учениками, которых числом быть должно двадцать, иметь смотрение флота лейтенанту А. М. Юрлову, определяя вместо учителей штурманов и подштурманов, знающих и способных; при наступлении же первого числа каждого месяца или по третям год, в полном собрании охотских штаб и обер-офицеров, флота лейтенантам И. Синдту и А. Юрлову экзаменовать оных школьников и аттестовать каждого по оказанной к наукам прилежности». Тогда же по приказанию иркутского губернатора генерал-поручика Ф. Н. Кички в Охотск были присланы книги из иркутской библиотеки и предписано смотреть за школой А. Юрлову. Кроме того, Бензинг нанял для изучения в навигацкой школе латинского, французского и немецкого языков иностранного пастора, с жалованием 5 руб. в месяц. С уходом в 1784 г. Бензинга школа опять оказывается в упадке. Приказ общественного призрения, за счет которого в последнее время содержалась школа, отказал в ассигнованиях на нее (по неимению доходов), к тому же, из-за крайнего недостатка в штурманах, некого было и назначить там учителем.