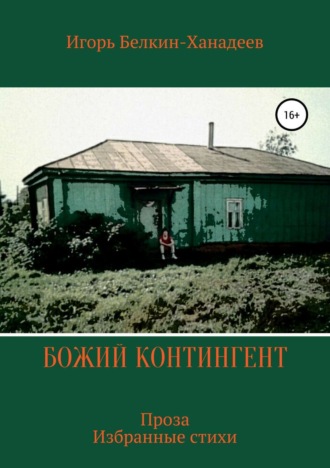 полная версия
полная версияБожий контингент
5.
Толик с Лешкой вернулись из Пылинки на Ландышевской кукушке. Рано утром они отправились в магазин пешком по шпалам, говорили о том, чего и сколько будут покупать. В магазине женщина по имени Вика, тоже с их Гари, Анечки Кадилки старшая сестра, развеселила очередь, заказав продавщице кошачьего корма и крысиного яда. Толик, навесив сумку с продуктами на плечо, окликнул Вику уже на улице, и, пока шли до станции, допытывался:
– Что ж это у вас кошка делом-то не занимается?
А баба с намеком ответила:
– А что кошка? И коты такие же стали. Лежат, мышь супротив них сидит, а им корм из красивого пакета подавай, чтоб само пришло в миску.
И, когда от магазина и народа далеко отошли, добавила:
– Анечка у нас девочка хорошая! Ты бы присмотрелся к ней – ну, гуляла раньше, с кем не бывало! А теперь посерьезнела, глупости все в прошлом.
Изумился Толик: – Вика, я ж Анюту к себе звал когда-то, а она не пошла – «страшно у вас» – говорит.
– Во-во, ты ленивый кот и есть, ждешь, что к тебе девка придет и сама ляжет – что-нить покажет. Пентюх, вот ты кто! И гордяк! Потрудиться надо!
Теперь, сойдя с коротенького Ландышевского поезда, Толик прикидывал, что же Вика подразумевала под словом «потрудиться».
– Лешка, – брату говорит, – ты хочешь, чтобы Анюта в гости к нам пришла?
– Пусть приходит, – совсем по-взрослому ответил малой, – она, вроде, ничего – тебе подойдет.
– Ну, тогда будешь мыть пол, чтобы ей у нас страшно не было. Трудиться, Лешка, надо!
Навстречу, раскидывая лапами пыль да грязь, чесал к любимому хозяину Дружок. Разноцветный какой-то. Морда, холка и шерсть на спине раскрашены – почти вся шкура в желтых, розовых и зеленых нарядных пятнах. Толик удивился, не понял, что случилось. Только когда за угол дома, к себе во двор, зашел, догадался – стоял во дворе на раскладных тонких ножках открытый деревянный ящичек, тот, который гость ночью с собой привез.
Сам художник с ничего не выражающим лицом сидел на порожке и оттирал с брезентовых штанов красочный деревенский этюд.
– Что произошло? – спросил Толик. – Собаку хоть в музей сдавай в рамочке!
Пришлось рассказать, как было. Пока Ленчик набрасывал подмалевок, Дружок вел себя спокойно, но, видно, запах масляной краски показался ему вкусным, и едва автор положил на землю палитру, чтобы отойти и глянуть на погорелый померанцевский этюд издали, как голодный пес начал пробовать краску на вкус и валяться на ней кверху брюхом. Ленчик его пыталался отогнать, но Дружок, решив, что с ним играют, утащил и разгрыз одну из кисточек, и, вдобавок, пообтерся о Ленчиковы длинные и тонкие, почти как у художественного ящика, ноги.
– Что же мне с собакой делать? Обстричь что ли, пока все не перемазала? – сокрушался Толя.
Ленчик посидел еще немного, поднялся и сказал:
– Толик, прости, нагостился я, хватит. Поеду, наверно, домой, в Питер. Когда поезд, завтра?
***
Иван Иваныч снова ехал из Приозерска в Тверь в общем вагоне этого скрипучего московского поезда. Сидел, уставившись в окно, отсчитывая полустанки и деревни, возле которых машинист непременно делал остановку. Всё как всегда: кто-то выходил, кто-то, наоборот, впрыгивал в вагоны, клацая ногами по железным ступеням. Новые пассажиры, шумно дыша, протаскивали багаж внутрь по узкому проходу, спотыкались, задевали углы полок и сидушек чемоданами, узлами и баулами, показывали билеты, просили у проводницы чай.
Вот уже проехали Заречье, дальше будет Друлево, поселок Советский, который во все времена местные по старинке называли Пылинкой, потом – Померанцево, Ландышево и Торжок. От Торжка начинались новые пути с бетонными шпалами и плотной паутиной проводов поверху, и поезд там обычно стоял час, пока меняли дизельный локомотив на электровоз. И уже посреди ночи Иван Иваныч выйдет на тверском вокзале со своей массивной спортивной сумкой, в которой сменка, бельишко, носки и харчи на несколько дней, дождется первую рассветную электричку и, спустя полчаса, прибудет на объект. Иван Иваныч, приезжая каждый месяц в синюю металлическую бытовку на целых две недели, охранял контрольную станцию газопровода. На том месте, где совсем недавно были чистый грибной лес и две еще не до конца покинутые деревни, теперь высилась гигантская головоломка из труб, и нарядным заграничным коровником тянулся административный корпус. Сторожу-вахтовику из Приозерска было все равно, что здесь было раньше и куда из родных изб выселили доживающих старух, – главное, он отработает, получит неплохие, в принципе деньги, и тем же московским поездом – домой. А остальное – не его забота. Так вахтовик рассуждал, рассматривая в поезде попутчиков, пытаясь от скуки определить, что за человек появился в вагоне, местный или нет, чем занимается и какой жизнью живет. «Тоже что ли чаю заказать? Только с лимоном, если есть», – подумал он. Проводница принесла – цвет чая был бледноват, не такой как у соседа – наверно, из-за лимона. Чужая жизнь, даже в мелочах, всегда казалась Иван Иванычу интереснее, ярче, богаче на события, гуще, насыщеннее и ароматнее чем своя.
– Померанцево! Кто в Померанцево выходит, готовьтесь! – пройдя по вагону, объявила проводница. А он смотрел в окно – туда, где черными обелисками мелькали обугленные печные трубы, обгорешие остатки стен, столбов, деревьев. О! – на одной из сожженных яблонь будто зеленела новыми листьями ветка. Или показалось? Удивительная штука – жизнь. Когда-то Иван Иваныч тоже приезжал в Померанцево – ходил по избам, рассчитывал расстояния от магистрального газопровода, проверял печки, советы давал, как их лучше под газ приспособить. Инспектором был. В одном из домов хозяйка жаркая попалась – как печь. Оголодала, видать, без мужика. Соблазнился он тогда, пошел на приступ, – да она и не противилась. Не то Таня ее звали, не то еще как… Дом ее в пожаре сгорел, конечно. А с ней что? Куда-нибудь, наверно, переехала. Государство заботливое, какое-никакое жилье да предоставило. Иначе и быть не может.
На станции в вагон зашел не то парень, не то мужик, – малый, одним словом, – смурной, долговязый, ссутулился весь – с деревянным ящичком на плече – должно быть, художник. Какой-то он грустный, будто гложет его что-то, словно жизни не рад. Не вдохновило его, видно, Померанцево. Да и что тут вдохновить может – гарь одна… А ящик чистенький, новый, как только что купленный. Побаловаться просто приезжал, покрасоваться? У настоящих художников ящики грязные, в краске, в наляпах. Ну, ничего, жизнь долгая – заматереет, запачкает еще свой ящик – вот тогда, может, и пойдут вдохновенные полотна… И, рассудив так, Иван Иваныч отглотнул остывающего чая с лимоном.
На улице, рядом с вагоном залаяла собака. «Тихо, Дружок! – скомандовал грубый мужской голос, и уже нежнее и тише, так, что Иван Иваныч еле разобрал: – А завтра сходим к Найде, к мамке твоей, и хозяйку ее в гости позовем, ей теперь у нас не страшно будет – Лешка вон какую чистоту навел…»
ДЕЗЕРТИР
Рассказ
Приземистый румяный парень идет пешком, иногда оглядывается – позади, скрывшись за посадками, остался семеновский поворот… Попуток не то, чтобы нет – едут, но Саню никто не берет. У своих, у самойловских, видать, всё запасено, – по домам сидят, никто под утро на рынок в Балашов не поехал – некому теперь, к полудню, и возвращаться. Изредка прут мимо транзитные рабочие лошадки: в основном, вазовские "четверки" да "нивы" – легко долетев по гладкой бетонной трассе из райцентра до Семеновки, сворачивают сюда, на разбитую дорогу, и, теряя скорость, ползут дальше через Самойловку в Аркадак. С прицепами и без, груженые – битком народу и скарба – крестьянские легковушки эти с хрустом давят колесами мелкий щебень в дорожных ямах. Народ – чужой, не самойловский, – бросает равнодушные взгляды из задних стекол: для пассажиров Саня, одетый в мешковатый, явно с чужого плеча, спортивный костюм, – лишь часть унылого степного пейзажа. Всю его солдатскую форму – парадку, фуражку да шинель с пустыми зелеными погонами – ефрейторскую "соплю" рядовой Сашка не выслужил пока ни по сроку, ни по выучке, – рано ему еще, – уже либо носят, либо загнали на барахолке цыгане из поезда. Не до рвения было Сашке – тяжело тянулись первые армейские полгода и плохо для него закончились.
Время от времени солдат, заслышав позади машину, на ходу "голосует" – поднимает руку, держит ее вытянутой, пока транспорт с ним не поравняется, не прокатит мимо, – и потом беззвучно матерится вслед.
Проезжают и порожняком, но не тормозят – наоборот, норовят втопить хлеще… Вахлак ведь, штаны гармошкой, рукава свисают – что он заплатит за извоз?! – Сам дотопает!
Щелкают камни по дну очередной "тачки" – стук глухой, железный, как в ржавую пустоту…
Солдат – а по виду уже и не скажешь, солдат ли, – идёт, тащит на плече сумку килограмм на пятнадцать и смотрит окрест. Впитавшие влагу поля размахнулись вширь, вкось, то квадратами, а то в линейку, щетинятся прелой прошлогодней стерней; снеговые лужи, что в низинах, играют с небом в переглядки. Дома начался апрель. Наверно, март здесь был теплым, раз сугробы уже растопило. А в Алакуртти, где Сашкина войсковая пограничная часть, – пока зима. Там – местами тайга, а местами лесотундра с сопками, здесь – степь. По крайней мере, была когда-то. "Сельскохозяйственные угодья" – так определили Балашовскую природную зону в школьном географическом атласе для седьмого класса. Этим все сказано. Кабы сейчас стародавние времена – быть бы тут дикой глади до горизонта, а ныне все посадками разгорожено, – не дают посадки прозрить даль до конца, застят сиреневыми, в дымке, полосами. Но Сашка знает, что вот-вот покажется его родное село.
Сашка – дезертир.
1.
Было это вроде совсем недавно – и месяца не прошло, – а, казалось уже, что и не с ним, и, вообще, в какой-то другой жизни.
– Объясняем политику партии, – трое "старых" расселись по каптерке: один на столе, двое на подоконнике. Взгромоздили ноги в сбитых уже, до блеска вычищенных сапогах на табуретки и смотрели на Сашку весело, но не по-доброму – как коты на цыплака. Главный был Салгалов – в этой троице вроде идеолога – щупловатый, в идеально выглаженном "пэша", даже на рукавах стрелки. Кудрявый золотистый чуб из-под шапки и белесые, цвета замызганного банного стеклышка, нахальные глаза к солдатской форме не шли – к ним бы малинову рубаху, картуз с цветком и гармонь – выбрыкивать вприсядку в народном ансамбле в клубе на празднике.
– Чему учили в карантинах – забудь! – объявил "гармонист", – Молодые делают здесь всё: чистка, уборка, мытьё – всё на вас. Раз ты один – значит, на тебе.
– А чё, тебя одного прислали? Еще духи будут? – встрял с подоконника тупого вида амбал со свернутым носом.
– Хват, не перебивай, – повысил голос главарь, – Да, Сажин, скажи, что там на разводе говорил Демченко, будет еще пополнение?
– На разводе только меня в комроту отправили, – сдавленно, но дерзко ответил Сашка, – Больше ничего не знаю.
Его не отпускала тревога – до последнего надеялся, что пошлют на заставу и теперь, когда не подфартило, не знал, как себя вести в новом окружении.
– Нам троим кроватки еще заправлять будешь, – прорезался третий – накачанный коротышка с мордой как у мопса.
Голос у коротышки был злой, одновременно хриплый и тонкий.
"Те двое ещё ничего, а этот гнус", – подумал Сашка.
– Да, Сидор, молоток! Хорошо придумал, – загыгыкал Хват, – кровати заправлять, еще сигареты добывать..
Будь сейчас другая ситуация, Сажин бы улыбнулся – рядом эти двое из ларца смотрелись причудливо: великан и карлик. И в то же время чем-то похожи. Если бы Хват ненароком попал под кузнечный пресс, точно получился бы Сидор.
Коротышка, гадко ухмыльнувшись, вдруг огорошил вопросом:
– Сколько?
Сашка растерялся и переспросил:
– Сколько …времени? – И начал задирать левый рукав, чтобы взглянуть на подаренные дедом Егором часы.
– Сколько старому до дембеля осталось, – рассердился Сидор, – Не тупи!
Сашку еще в учебке сержанты предупреждали об этом дурацком вопросе, готовя к тому, что на заставах и ,особенно, в гарнизонных ротах будет, по их словам, "дедовщинка". Молодежь, вроде как, должна была считать дни, которые остались старослужащим до приказа. Еще было очень много этих дней – двести с лишним, Сашка не помнил.
– Э-э, воин, а ты чё в "котлах"? Командирские что ль? Дай заценить.. Снимай, снимай… На первом году часы ваще не положено, – Хват слез с подоконника и протянул ручищу.
Салгалов поддакнул:
– Будет тебе урок! За то, что не помнишь, сколько осталось, забираем "котлы" себе…
Сашка расстегнул ремешок, протянул вниз циферблатом, чтобы увидели надпись на крышке. "Старики" сначала не поняли, в чем дело, тупо читали по очереди несколько раз и вдруг все вместе засмеялись.
– Не-е, – Хват поморщился, – мне западло котлы с такой надписью носить.
– Да-а, – мерзко и весело протянул Сидор, – Западло.
– Западло? – Салгалов выхватил у Сидора часы и швырнул об пол.
Странный звук, будто чиненная пружина снова отлетела – сломалось что-то в старом механизме. Сломалось в тот момент что-то и в Сашкиной душе.
– Западло? Западло? – все больше распаляясь и уже почти истеря, повторял Салгалов. Он хрястнул по циферблату каблуком, – Западло не знать, сколько осталось старому! Западло носить часы на первом году службы! Западло!
Он отбивал чечетку на осколках, шестеренках, винтиках. Свалялся пыльный ремешок, откатилась куда-то крышка с гравировкой:
– Западло!
Даже Хват с Сидором с недоумением наблюдали за истерикой своего заводилы. И не замечали, как неузнаваемо меняется в лице молодой и на первый взгляд робкий Сажин.
В эту роту – комендантскую – Сашку распределили после учебки, и, хоть просился он у замначштаба майора Демченко на любую линейную заставу, навстречу ему не пошли, – умудрились впихнуть его, молодого, причем, одного-единственного, в то подразделение, которое больше всего на виду у гарнизонного начальства.
Чем уж он так в штабе приглянулся, или уж, скорее, наоборот, не угодил, – Сашка не понимал. Все офицеры, как один, едва его завидев, кричали:
"Сажин, ну и репа румяная!", "Сажин – небось деревенский?", "Морда у тебя, Сажин, – кровь с молоком!", "Всем брать пример с рядового Сажина – так и должен выглядеть образцовый солдат!" Неужто всего лишь за здоровый цвет лица ему так не повезло? Начальству так важно, чтобы караульные при штабе были крепкими и румяными?
И все всегда называли его по фамилии, Сажин да Сажин… И молодые, и старые, и офицеры, и даже женщинка из лаборатории в санчасти, коловшая новобранцев в палец.
"Имя свое там забудешь. В армии только по фамилии …" – так и предупреждал Егор Петрович внука, вытаскивая из своей памяти подробности подзабытых фронтовых будней.
Еще дед любил рассказывать, – особенно выпив на праздничных застольях, когда собиралась в их доме в Самойловке вся окрестная родня, – как его полк в войну освобождал Освенцим, и, в тысячный, милионный раз избавляясь от морока виденных им трупов , описывал всё до жестокости подробно, закатывая к потолочному брусу глаза, в которых начинала туманиться старческая синева. Егор Петрович не замечал, как дочь пихала его локтем в бок, и улыбался внутреннему калейдоскопу проскочившей жизни – не понять было, что ему представлялось в тот момент, когда он пояснял бабам, насаживающим холодец на вилки, чем крематорная топка в концлагере по своему устройству отличается от русской печи. Улыбался, а у самого дрожали кисти рук, и вилка звенела о старую эмалированную тарелку.
Последнее застолье было на седьмое ноября, на праздник, который в селе неизменно называли "Октябрьская", – за месяц до того, как внук с кружкой, ложкой и трехдневным запасом харчей отбыл к месту службы. Санёк в этот красный день календаря как раз родился. Погалдев, выпив за Сашку и его маму, гости принялись за горячее – была утка с капустой и дымились отварные картофелины с укропом.
В тот вечер Егор Петрович подарил Сашке свои командирские часы со светящимися стрелками:
– В армию возьмёшь, там пригодятся.
Когда накануне он ездил в Балашов в часовую мастерскую – чинить механизм и заказывать дарственную гравировку, его там отговаривали:
– Зачем новобранцу в армии часы – отберут ведь.
– Не отберут, с такой гравировкой старослужащие не посмеют, – довольно усмехался дед и перечитывал черненую надпись на серебристой крышечке. Выведенные строгим шрифтом буквы складывались в изящную надпись: "Молодому бойцу от деда".
– И ,правда, двусмысленно, – отметил мастер с улыбкой, можно и так понять, и эдак… Каждый дембель "дедом" себя мнит, "старым", – а тут "молодому бойцу", над дембелем свои же смеяться и начнут, если в таких часах ходить будет.
– То-то же, – хвалился дед Егор, – О, как я придумал!
Три месяца, с самого первого дня в армии, Сашка сверялся со светящимися стрелками, и были они для него той ниточкой, которая связывала с домом: у кого-то фотография любимой, еще у кого-то – мамин крестик, а у него – дедовы командирские часы.
Когда машины, пара "уралов" и шестьдесят шестой "газ", привезли пополнение прямо с поезда на вычищенный плац и туда же, на хрустящую заснеженную твердь , всех новоприбывших выгрузили из машин вместе с сумками, было еще интересно. Даже любопытно было, что же ждет саратовскую команду дальше. И, главное, что заботило многих – когда выдадут обмундирование.
– Через полчаса выдадут – сообщил сержант, который вез их в поезде, – Не спешите, надоест еще форма, мечтать будете одеться в гражданку…
"Полчаса, – подумал Сашка и глянул на часы, – Дед, слышь, через полчаса стану солдатом. Как ты и хотел."
2.
К призывному пункту Саратовского облвоенкомата подогнали заказной автобус. Он стоял в клубах вонючего бензинового дыма и ожидал пассажиров довольно долго – под задним бампером от сизых выхлопов уже потемнел асфальт и накапало радужную лужицу. Каждый из отъезжающих обязательно приводил с собой группу. В основном, это были родные: матери и бабушки, реже отцы с дедами, тетки; через раз попадались любимые девушки с непременными клятвами дождаться, и самой многочисленной группой, которая непонятно кого провожала, были молодые веселые горлопаны из числа друзей. Один из призывников, чернявый, с усиками и модной чёлкой на глаза – таких девки любят, – бренькал на гитаре песенку про путану: "Меня в афган, тебя в валютный бар…" Ребята подпевали – кто-то даже жалел, что афган кончился – не погеройствовать! Ещё обсуждали насущное: в каких краях находится таинственный посёлок Балакурти, в который отправляют их служить. Сошлись на том, что по звучанию, наверно, ближе к югу: "какой-нибудь Таджикистан, не иначе…"
Сашка провожал себя сам – дед привез его заранее и, сдав дежурному, ушел, чтоб не пропустить маршрут Саратов-Аркадак, который пролегал через Самойловку. А то пришлось бы Егору Петровичу плестись семь километров, а у него больные ноги.
Когда автобус с призывниками тронулся с места в сторону железнодорожного вокзала, сопровождавший команду капитан-пограничник собрал военные билеты, что в обмен на паспорта выдали всем на руки буквально за полчаса до отъезда, и стопкой убрал их к себе в портфель.
– Товарищ капитан, а дынями на заставе кормят? – спросил Сашка, размышляя о том, как обустроен быт на таджикских границах.
– Че-ем?
– Дынями, – вздохнул Сашка.
– Дыни в Заполярье к сожалению, не растут. А ягодным вареньем и грибами, которые вы сами соберете, сварите, засолите – кормят.
– В каком еще Заполярье? – Сажин подумал, что, может быть, не тот автобус или команда не его.
– В Мурманской области. В Алакурттинском отряде.
Вот оно что. Алакуртти– Балакурти, юг, тепло. Да, дела-а…
– А у меня даже теплых носков нет, – сказал Сашка.
– Дадут портянки, – успокоил капитан.
– Размер? Какой размер? Воин, тебя спрашивают!
– А фуражки когда?
– Сорок три.
– Товарищ прапорщик, а почему шинель без пуговиц?
– Подвяжи простынь, неча хозяйством передо мной светить.
– А других шапок нет?
– А погоны?
– Подойдёт, натянешь!
– Белье надевай сразу – и кальсоны, и рубаху! Теперь зимнее! Живее, боец, как там тебя.. Сажин! Отмечаю – белье получено. Простыню кидай сюда!
Сашка вздрогнул – в оживленной многоголосице спортзала, временно превращенного в пункт выдачи обмундирования, сейчас обращались к нему. Начал спешно натягивать белые хлопковые кальсоны с пуговицей. Рубаху. Так, зимнее… Трикотажная фуфайка цвета небесных послегрозовых просветов застряла на влажной бритой голове – ни туда, ни сюда. Улыбался в морщины прапорщик, смеялись дежурившие в зале сержанты, ржали новобранцы. Повеселил народ рядовой Сажин. Натянул все-таки вещь и с бирюзовыми катышками, прилипшими к черепу, направился получать камуфляж. Присмотрелся к своим, – оказалось, что у всех на головах такой же трикотажный начес: друг на друга пальцами показывают и веселятся поволжские ребята.
Сначала в раздевалке всех стригли под ноль ручными машинками и отправляли, как выразился торчавший здесь усталый майор – начмед, – на "санобработку", которая оказалась просто холодным душем.
– Солдат, в часах мыться собрался? Снять часы! Отправишь посылкой домой, – крикнул майор.
– Амфибия, – фыркнул Сашка, забегая под струю воды.
– Что сказал?
– Часы-Амфибия. Командирские – не намокнут. Дед приказал не снимать.
"Ну попади только ко мне в санчасть, шустряк, – пробормотал опешивший офицер, – попробуй только заболей… Амфибия…
Сашке не привыкать – закаленный в деревне, приученный мыться колодезной водой, он крякал, пока тонкая ледяная струйка точила бритую голову. Только вот склизкого дегтярного обмылка, что вырывался у всех из рук на рыжий плиточный пол, ему не досталось. После выдали по простыне и по листку со списком:
– Та-ак, бойцы, вытираемся, заматываем срам, и бегом получать форму!
В спортзале было подготовлено несколько развалов со складским добром: шинели, накиданные ворсистыми скрутками; черные, свиной кожи, сапоги-заполярки, сшитые попарно ; белье нижнее белое и, с начесом, – белье утепленное синее; ремни со сверкающими бляхами, длинноухие страшные шапки с завязанными ушами, и отдельно – камуфляжные костюмы с иголочки – мечта "стариков", готовящих себе амуницию на дембель. Прапорщики, вооружившись планшетками и карандашами, занимались выдачей, сержанты направляли людской поток. Между вещами и лысыми, как яйцо, новобранцами, на разные лады замотанными в белые простыни, сновал фасонистый офицер – опять же с майорской звездой – из роты материального обеспечения и деловито ступал сам подполковник Тарасов – грозный вездесущий начштаба.
– Сперва вещмешок, – гаркнули Сашке в правое ухо, в котором после бодрого душа студеной пробкой застряла вода. Он подал список, – напротив первого пункта поставили галочку, – и, кружа по залу, одеваясь и постепенно обрастая имуществом, ходил от горки к горке, пока, наконец, не получил шинель.
А скольких трудов ему стоило ее обшить!
–Эх-х, опять иголка сломается, – досадовал он на крепкое шинельное сукно.
Полупришитый погон оттопырился, торчал зеленым крылышком, нитка запуталась, увязла узелком в плотной ткани.
– Бери лезвие, отпарывай и пришивай по новой, – подсказал сержант, назвавшийся Димой, – и поживей давай, тебе еще петлицы, пуговицы, не тормози…
– А иголки есть еще?
– А на тебя не напасешься, сколько сломал уже? Все шьют, никто не ломает, один ты… На, держи. Сломаешь – пойдешь туалет мыть.
Весь первый день службы саратовские новобранцы промаялись, доводя до ума форму, полученную накануне. Полный комлект – зимнее, летнее, парадное. Все оказалось полуфабрикатом – без пуговиц, петлиц, погон, шевронов, знаков отличий. Кокарды для фуражек – и те выдавались отдельно, вместе с крабиками и пуговицами. Вымеряй линейкой сантиметры, отступы, сверяйся с уставами, куском мыла ставь метку, как заправский портной, и потом знай себе – отматывай с двух здоровых промышленных катушек – белой и черной – ниток, сколько надо, ищи иглу и сиди, шей. Накануне перед отбоем в мыльницах разводили известку – маркировать вещи, и каждый тщательно спичиной выводил свою фамилию на подкладках.
Сержант Меркулов, которого на период карантина назначили молодым бойцам не то в командиры, не то в няньки, в принипе, был ничего – нормальный, душевный. По неуставной моде к поясной петле у него был приторочен складничок на длинной цепочке – поиграться. Дима его изредка открывал, для понту покручивал им в воздухе и втыкал в истертый от мытья дощатый пол.
"Покрасить бы надо полы в казарме", – подумалось Сашке, он вспомнил сразу, каким нарядным охристым глянцем светились дома доски, особенно перед праздниками, когда мама, бывало, пройдется влажной тряпкой.

