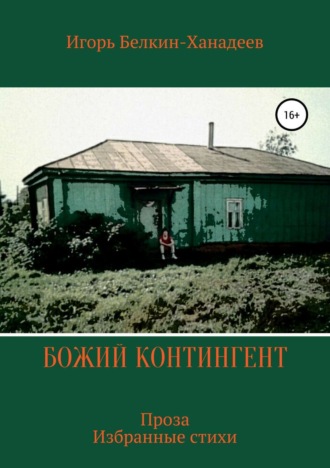 полная версия
полная версияБожий контингент
– Где ж это отца носит-то… – Раиса Филипповна нервничала.
– Сам не пойму… – Витька вдруг забеспокоился…
Тревожно стало и Стасу.
Наконец, пелену тихого утра дымным рокотом вспорол мотоцикл с коляской – съехал в их сторону, перевалил через рытвины и напоследок наполнив улицу рёвом и едким синим облаком, остановился и заглох. Плакун почему-то оказался уже в мотоциклетной люльке и голосом пророчил печальные перемены, а в седле за рулём в модной байкерской косухе восседала Стасова жена…
…Надрывался будильник.
В яви, случившейся давным-давно, Бурундучкова мотоцикла так и не дождались – на охоту уехали на подводе. Плакуна заморочил духмяный след чьей-то течной суки – увёл пса так далеко, что частый всхлипывающий лай перестали уже слышать, и прошёл ещё час, прежде чем собака вернулась на звук Витькиного рожка. Стас чуть позже подстрелил зайца, который, кувыркнувшись, затаился в траве и истошно кричал, отчего всем стало не по себе. Чижик второпях, словно в каком-то мистическом испуге, дострелил подранка и, пока возвращались, больше никто не проронил ни слова.
В деревне выяснилось, что Витькин отец разбился в то утро в аварии, столкнувшись с цементовозом.
Не хотел он чистить снег, устал быстро, взопрел и, замерзнув, покидав инвентарь, пошел в избу – греться к газу. Раиса Филипповна выгнула губы в тонкую недовольную полоску, глазами с племянником не встречалась и если смотрела в его сторону, то словно сквозь – куда-то в прошлогоднюю даль, манившую её весёлыми зелёными бумажками. А ведь заветную сотенную в тот предпоследний приезд к тётке, когда на запах московского гостя сбрелось много непутёвой родни, у него украли. И долго все играли в дознавателей, и Раиса Филипповна совестилась и сердилась, обыскивая спитых одноногих дядюшек, дурковатую золовку с гулящими дочерьми, сыновей первой жены покойного мужа, и даже Виктора тряся за грудки.
– Как сестре в глаза буду смотреть?!
– Да ничего, тётя Рая, ещё заработаю…
Сколько он их поил, кормил и баловал деньгами в желании купить их, как цыганский ансамбль! Грелся в лучах их поддельной суетливой радости, показного уважения, порой подобострастия, пока деньги не заканчивались и не приходило осознание, что всё – иллюзия, что в его лице на самом деле оказывают почести его маме и уважают именно её – за то, что не побоялась уехать из их болота, за то, что теперь грамотная, богатая, столичная. Кто ему теперь эти восхваляющие кормящую ладонь люди? По крови – родня, по рюмке – ровня, а по духовным запросам, по томлению души?
Станислав – просто сын сильной матери, которая рванулась из трескучих пут сельского быта в лучший университет страны, не жила – летела ракетой ввысь, вместе с Гагариным и поколением шестидесятников. У мамы была настоящая мечта! Она осуществила её – выучилась, дала образование сыну – такое, что со своим французским он был бы переводчиком нарасхват, журналистом, дипломатом, крупным бизнесменом, мог бы жить в сердце Европы, если бы захотел.
Но он валял дурака, искал себя и, так и не найдя, на годы застыл в скромной должности клерка, пишущего письма в заокеанский Квебек поставшикам куриных ножек. Он лишний. Ему бы интеллигентно спиться, пополнив ряды фартовых арбатских пьяниц, но интеллигентно не выйдет, потому что даже для этого нужно иметь связи, накопленные поколениями, потомственную "породу" и наследное жильё внутри Садового кольца. А он, начни пить всерьёз, рухнет сразу на самое дно – вокзал будет его домом, и то ненадолго – не вынесет он вокзала, ляжет под поезд от презрения к себе в этом новом качестве…
Пропади он пропадом этот снег, заваливший всю Муромку с её окрестностями! Если и найдёт, накалымит, займёт или, слёзно покаявшись по межгороду, выпросит у матери телеграфным переводом денег на обратный билет, куда он поедет? Мама предупреждала, что женитьба его закончится большими убытками. Сколько было ссор из-за его избранницы! Что ж, накаркала мама – развод состоялся, а квартира, подаренная когда-то молодым на свадьбу, только что уплыла – по решению суда под самый Новый год…
И как же надоели ему куриные ножки!
В раздумьях Стас не заметил, что за Витькой пришли: мордатые здоровые электрики с участка – мужики при деле, в робах поверх телогреек. Если и не трезвы, то хмель угадаешь лишь по слезящимся красноватым глазам – и то, может, с морозу. Погрелись жидким чайком, поставили сонного на ноги.
В сравнении с ними Виктор – доходяга. Ему за сорок: с малиновым лицом, уже морщатый и съеденный водкой, стоит и чешет подбородок, а щеки в иглах седой щетины, как у старика.
– Побрился бы… – проявила заботу Раиса Филипповна, – А то на отца покойного похож…
– Потом, – зло бросил Витька, обуваясь.
– Пьяный дурной, а трезвый сердитый, – ворчливо благославила мать.
Бак она нашла – в сенях под столом, накрытым широкой скатертью из старой шторы. Сложила куски сала, маслице и дрожжи, накрыла крышкой.
"Так, теперь дело за гнётом… Где-то тут камень был – голец…
Она ходила по сеням долго, вороша тряпье в корзинах, открывая сундуки с хламом, который когда-то берегла как святые реликвии. Фара от мотоцикла, чехол от Витькиного ружья, которое он давно пропил, Звёздочкино ботало… Было слышно, как в горнице скрипит половицами Стас.
"Вот и ходит, ходит кругами туда-сюда. Думает он… От, городские – никак работать не заставишь, паразит…"
– Езжай к матери, повинись! – крикнула она через стену, – Никому ты, кроме неё, не нужен! И хватит мне тут полы натирать – чистые!
Половицы в комнате на какое-то время замолкли, но вскоре заскрипели вновь.
Чёрную весть принесла баба, жившая за мостом. Там, напротив её дома, и случился обрыв, поэтому она всё видела: как бригада снимала старый пролёт, как навешивала, отматывая с катушки, новый, как что-то у электриков не получилось – в домах моргнули лампочки, тявкнули холодильники, и снова тишина и лишь слюдяной морозный свет из окон. Видела баба и то, как Витьку, балагурно подбадривая, опять, словно на крест, водружали на столб. И – то, что случилось, когда он уже был на самом верху. Прибежала с бледным испуганным лицом и, смакуя подробности, захлёбываясь и повторяя самые жуткие детали по нескольку раз, не имея сил остановиться, вещала – будто заговаривалась:
– Чавкнул провод. И искрит, искрит. А Виктор как дёрнется, как задымится! И такой страшный звук пошел, будто завыл кто, а это когти его вниз по столбу тянут…
Баба не замечала, что Филипповна бледнеет и хватается за грудь, и всё продолжала рассказывать о том, как страшно под тяжестью сползающего тела скрежетали о заиндевелый бетонный столб монтажные когти.
Раисе Филипповне сделалось плохо с сердцем.
Рывком, будто кто-то корявыми страшными лапами схватился за борта лодки и, раскачав, наконец с глумливым улюлюканьем опрокинул её, выплеснул пассажира из уютной посудины в омут, перевернулась страница Стасовой жизни. Закончилась его многолетняя семейная нелепица, а следом оборвалась, как провод под тяжелой наледью, и муромская эпопея. Стас знал: никто ему здесь никогда больше не будет рад.
Волей-неволей ему пришлось вырваться из своих путаных дум и начать что-то делать: дошёл перво-наперво до Сергея Чижика – договориться о лошади, без которой по снежным завалам не проехать. Потом вместе двинули на санях в соседнее село за фельдшером, привезли, и после укола тёте Рае полегчало – она вроде даже смирилась со случившимся и, достав из-под подушки узелок, вытряхнула на покрывало мелочь.
– Слава, помоги, все хлопоты сегодня на тебе. На почту съезди – подай хоть телеграммы…
На похороны ни Стасова мама, ни тёти Раина дочь Светлана приехать не смогли, но обе срочными переводами выслали деньги. Подсчитали – сумма получилась большая, но на все не хватало.
– Слава, будем экономить, – сказала Раиса Филипповна слабым голосом, – надо тебе и на билет выкроить.
На второй день мороз загнул за двадцать. Стас обходил дворы с И непутёвая родня, и все муромские забулдыги под разными предлогами отмахнулись от рытья могилы:
"Всего за кусок хлеба с салом и сто грамм? В такой холод? Земля-то – камень! "
А Витькины коллеги-электрики, сославшись на занятость на линии, обещали поспеть лишь к самому концу:
– Ну, закопать-то поможем…
Бак пригодился. Мыши всё-таки пробрались внутрь, сгрызли дрожжи и попортили остальные припасы. Раиса Филипповна, напившись просроченных таблеток, двигалась как в тумане: посудину освободила, отмыла от мышиного духа и накануне похорон сварила в баке поминальные щи.
"Слишком постные – как вода", – бормотала она, пробуя готовку.
И, подумав, загустила отвар бульонными кубиками. Почему-то боясь, что в сенях или подполе щи замёрзнут, испортятся или в них залезет какая тварь, она накрыла бак крышкой и, плотно обернув фуфайкой, оставила на ночь в избе – запариваться.
К утру щи прокисли.
В сундуках нашли Витькины старые теплые вещи – телогрейку, валенки, ватные штаны и шапку, одели в них Стаса.
Он долбил мёрзлую землю один – с истовой любовью к простому люду и ненавистью к своим высоким поискам. Пожёг ледяным ломом ладони, содрал кожу и через боль продолжал бороться с непослушной землёй. Почти надорвался, но всё равно вышло не так глубоко, как принято было на кладбище, и когда привезли гроб, был рад, что мука закончилась. Редкий народ, ёжась и притоптывая, быстро простился с покойным и разбрёлся. Вдали показались мордатые электрики – успели, сдержали своё обещание. Теперь справятся без него – московский могильщик от усталости уже плакал навзрыд и оставил тётку одну провожать сына в последний путь…
У кладбищенских ворот старуху терпеливо ждал Сережа Чижов с санями. Неизменная верная лошадь выдыхала густой пар из широких подернутых инеем ноздрей.
Негнущимися пальцами Раиса Филипповна вытащила из платка свернутую в трубочку зеленую бумажку, которая пролежала у неё целый год, и, не разворачивая, бросила на студёный ветер. Трубочка полетела, стукнулась о крышку гроба и, покатившись, упала в темную мерзлоту.
– На, Витя. В Муромке никому не нужны оказались – так на рубли и не поменяли. Может, там тебе пригодятся…
– Вы идите, идите, Раиса Филипповна, не мёрзните – вдруг, всполохнув красными слезящимися глазами, отчего-то поторопили её мордатые, – мы сейчас быстро…
БЕЛЫЙ МАЛЬЧИК
Легенда
1.
– Что, Артёмка? Оторвались мы от мамы? Едем?
– Едем, – весело согласился сын, забираясь с ногами на нижнюю полку.
– Руки протрём?
Я достал пакетик влажных салфеток, который жена сунула мне в боковой карман рюкзака. Сунула и десять раз напомнила о том, что пользоваться ими – обязательно, особенно в поезде.
– Может, не надо? Я же не пачкал руки, – хитро сощурился сын.
– Ладно, попозже, перед едой, – согласился я и заговорщицки подмигнул своему белобрысому отпрыску.
Раз уж отдыхаем от мамы, то отдыхаем от неё в любых мелочах.
К дороге я его коротко остриг, чтобы голове было легче и никакие деревенские репьи, "собачки" и, не приведи господи, клещи с блохами не угнездились в солнечных мальчишеских вихрах. Остриженный, он стал темнее, обыкновеннее. Превратился из неземного домашнего создания с локонами в простого пацанёнка-дошкольника, каких тысячи, а может, и миллионы.
– Пап?
– Что, сынок?
– А у тебя завтра день рождения?
– Завтра.
– А сколько тебе исполнится?
– Тридцать лет и три года.
Большой город за окном вагона сменился посёлками, заводскими корпусами и наконец иссяк, уступив место перелескам. Время уже шло к полудню, к тому же мы ехали в юго-восточном направлении – наползала жара, и пришлось вставать с места, трудиться, отквашивая, отжимая плотно прикупоренную форточку.
– Закройте, сквозняк ведь! Мальчонку-то простудите, – проворчала старая женщина, замотанная в ситцевый платок, – наша соседка по купе. У неё был билет с местом на верхней полке, но в дневных поездах не важно, у кого какое место – всё равно все сидят внизу, будто каждый охраняет от соседей свою четвертушку приставного столика. Будь поезд ночным, я оказался бы в трудном положении. Не уступить нижнюю полку пожилому человеку нельзя, но и ребёнка одного внизу не оставишь. Нет, пожалуй, не уступил бы.
И с форточкой я тоже не поддался на уговоры, сделал так, как считал, будет удобнее нам с сыном. Пусть дует, пусть попутчица ворчит, да пусть хоть начнёт сморкаться или расчихается, лишь бы веяло прохладой.
Женщина умолкла, угрюмо разглядывая невесть откуда катящиеся по окну капли – вагон, наверно, мыли ещё в депо, и теперь встречным потоком воздуха из внешних щелей выгнало затаившуюся воду. Провожая взглядом очередную горошину влаги, пассажирка, скорее всего, сетовала в своих думах на современный мир молодых эгоистов и на беспопощную зябкую старость, в какой-то момент обогнавшую её мечты. Тонкие губы плотно сомкнулись монгольским луком, концы которого стянула книзу жёсткая тетива неодобрения. Но время шло, и шёл поезд, колёса стучали мягко, баюкающе, ветерок из форточки постепенно теплел, и женщина смирилась, оправилась от обиды и даже, порывшись в сумке, достала и протянула Артёму конфету.
– "Лимончик"… Не шоколадная… – сын кисло улыбнулся, – Я шоколадные люблю.
– И что же? Это вместо "спасибо"? Артём! – я попытался притвориться строгим папой, нахмурил брови.
– Ну па-ап, я не люблю карамельные…
Женщина сфинксом сложила руки поверх своей сумки и только качала головой:
– Да-а… Да-а… Не такие мы были. Мы и не знали тогда никаких шоколадных…
Я развёл руками… Раздумывал, что на это ответить.
– Сынок, благодарить всё равно надо…
– Спасибо, – поник Артём пристыженно и отвернулся от нас к окну. Нетронутый гостинец лежал на столике и мелко вздрагивал жёлтой обёрткой в такт колёсному перестуку.
Завязался разговор. Женщину звали Марина Игнатьевна . В Москве она гостила у дочери, и теперь, возвращаясь домой, жаловалась мне на контрасты большого города:
– Один бетон у вас да асфальт. Всю зелень под плитами погребли. И народищу везде. Духота. А в метро, наоборот, холод, сквозняки. Вот у нас в Петрово хорошо…
– А вы тоже до Петрово едете?
– А докуда ж ещё.. Я там родилась, выросла, всю жизнь проработала, детей родила, отца с матерью схоронила. Брат родной тоже в нашей земле лежит. А дочь в Москве замуж вышла, её обратно теперь не заманишь.
– А мы в Крюки, в деревню. Двадцать с лишним лет уже там не был. Дальнюю родню проведать, сыну сельскую жизнь показать, настоящую. Нагостимся – на обратном пути и в Петрово на кладбище зайдём, дед там у меня. Всю жизнь в Крюках, а схоронили вот на городском. Давно уже на могиле никто не был.
– Это что ж так? – осуждающе вскинула бровь Марина Игнатьевна. А родители ваши? Вы же внук? А они дети. Им за могилкой и смотреть. По матери дед был или по отцу?
– По отцу. Прямая линия. Отец-то в столицу рванул чуть ли со школьной скамьи. Потом то учился, то работал, по командировкам мотался, пока сам не захворал: ноги то ходят, то не ходят. А я тоже: закрутился то с институтом, то по молодому делу – женился вот; Артёмка маленький был – с ним хлопот… Не до деда… А теперь потянуло.
– Ох, какие вы учёные-то с отцом, – съязвила зачем-то женщина, – по институтам, командиро-овкам. Небось, после командировки у папаши-то ноги отнялись? Что стряслось-то? Не сказал? Вот-вот… А мы – рабо-отали. Нам не до ученья было. Да-а…Москва-а… Как она, гадина, корни всем режет, отдирает людей от родины… А толку? Мальчик-то ваш, поди, на мультиках одних растёт? А из народного – и сказки, небось, ни одной не знает? Так?
Артём насупился – видно было, что не нравится ему эта досужая бабка в платочке.
У меня попутчица тоже вызывала раздражение, которое я и мог, и, с другой стороны, не мог себе объяснить. Вроде бы, насколько доводилось общаться, они почти везде такие – пожилые люди из провинции. Особенно в городках и посёлках. Докучливые, любопытные, не дураки пожаловаться на жизнь, поучить уму-разуму, которого у самих с горстку, пообижаться на ерунду, позавидовать столичным заработкам и быту. Ну, какие есть… Сельские, кто при земле, те – помудрее. Либо им просто некогда размениваться на пустую зависть. И потому с деревенскими проще – чувствуешь себя любимым внуком, плоть от плоти народа и живой родной земли, а не каким-нибудь гостем-пасынком, объектом промывания "дюже тонких и бледных" столичных косточек.
Но в нашей соседке по купе, мало того, что она явно любила сунуть свой нос в чужую жизнь, было к тому же что-то иррационально неприятное, сродни внутренним… нет, даже не лукавству и фальши. Скорее – хорошо спрятанным под маской провинциальной простоты – ненатуральности, кривде, мёртвой эмоции, которую она источала и которой отравляла, томила, морочила собеседников. "Женщина с дурным глазом" – вот что вдруг пришло мне в голову и что могло составить точную характеристику нашей попутчице.
– Ладно, – продолжала Марина Игнатьевна, – расскажу вам кое-что из наших петровских преданий. Не сказку, а то, что случилось на самом деле в давние времена.
И она посмотрела на нас долгим оценивающим взглядом, будто раздумывала, достойны ли мы слушать её.
Пока поезд скрипел, стучал колёсными тележками по стыкам рельсов, пока ветерок слабо, но всё-таки проветривал наше купе, пожилая петровчанка делилась легендой из жизни старого городка. Того самого, в который мы с Тёмой держали путь.
– Жил один мельник на речке, – начала женщина, и по тому, как взволнованно поджались одна к другой морщины на её лбу, стало понятно, что она, скорее всего, верит в то, что рассказывает, – А тогда были здоровенные амбарные замки. Будете в краеведческом – посмотрите обязательно, какие у нас замки делали в старое время. И ключи какие к замкам. О!
Она развела ладони, как заправский рыбак, посмотрела на воображаемый ключ и, подумав, добавила к размеру ещё сантиметров пять.
– От такие! И каждый по полкило, не меньше. А теперь представьте себе, что их – связка. Каково? От сарая, от амбара, от той кладовой, от этой, от мельницы опять же…
Артём зевал от жары, вагонной качки и затянувшегося душного вступления. Но с сыном мне было уютно, и я гордился тем, что он уже вырос и мы, мужики, едем вдвоём в свой первый дальний поход и слушаем познавательную быль.
– И кольцо ещё, поди, с калач.Там на кольце полпуда будет, этих ключей. Так он и ходил с ключами, мельник-то этот. А жил там ещё человек на выселках. По фамилии не помню, запамятовала. Это давно было, мне люди рассказывали. На "Г" как-то фамилия. Самый чертячий был человек. Обёртывался…
Женщина умолкла и посматривала выжидающе то на меня, то на Артёма. Как-то странно у неё получалось смотреть. Вроде улыбается, а сама глазами прожигает. Я даже поёжился.
– Обёртывался чем? – спрашиваю и посмеиваюсь.
– Не чем, а в кого. Кем.
– Оборачивался? Оборотень?
– Ну да. Поросёнком обёртывался. Оборачивался то-есть. Как поросёнка ничейного люди видели на дороге, так и всё.
И она опять замолчала.
Я улыбнулся, потому что уже слышал или читал когда-то похожую байку и теперь ожидал знакомых сюжетных поворотов, а вот Артёмка побледнел.
– Всё нормально? Тебе не жарко? – встрепенулся я над сыном.
А то мало ли – укачало или ещё что…
– Не жарко, – ответил он тихо, – просто наша фамилия тоже на букву "Г".
Мы с Мариной Игнатьевной засмеялись так, что заглушили хохотом мерный, ритмичный стук под вагонным полом, а четвёртый наш пассажир, статный старик, одетый, несмотря на жару, в плотные чёрные штаны и холщовую рубаху с длинным рукавом, заворочался на верхней полке. По виду он был то ли священник, то ли старовер, то ли заблудившийся во времени чернокнижник. Как зашёл на вокзале в вагон, обмахнув проводницу смоляной, с седым клоком, бородищей, так сразу полез к себе наверх и до сих пор, видимо, спал. Во всяком случае, мы ещё не слышали от него ни звука.
– И что было с людьми, которые видели поросёнка? – мне было любопытно дослушать историю до конца.
– Что-что, – отозвалась попутчица, – Заболевали, сохли, несчастный случай какой приключался, скотина околевала у них… – перечисляя беды, она всё так же странно улыбалась, – Умирали они, вот что.
На слове "умирали" женщина понизила голос до шёпота, но именно после этого шипящего, по-змеиному пугающего глагола с верхней полки донесся вздох.
– О, нечистый, вздыхает… колдун, – буркнула Марина Игнатьевна себе под нос.
Заметно было, что она занервничала.
– А как определили, что именно тот человек на букву "Г" был оборотнем? – подыграл я расказчице, сделав вид, будто верю во всю эту ерунду.
– А-а… Мельник его увидал. Смотрит – поросёнок в амбар залез, зерно, видно, ест. Ну, мельник возьми и кинь в него связкой ключей со всей силы…
– И что?
– Убежал поросёнок, ухромал. Копыто перебило ему. А человек тот чертячий – он так-то на мельницу каждый день приходил – зерно приносил молоть, но на следующее утро не появился. Хватились его, послали проведать, что стряслось, почему не идёт, а он дверь избы своей открывает, а рука на перевязи – сломал, говорит. Вот так.
– Ну это же могло быть совпадением!
– Не-ет. Человека этого, оборотня, поколотили через какое-то время мужики. До смерти забили.
– Какой же тёмный был народ! – вырвалось у меня горестное восклицание, – И что же? Какая здесь связь с поросёнком?
– Так с тех пор больше не видели его! А скотина околевать перестала… И люди болеть – тоже, – Марина Игнатьевна, казалось, была искренне удивлена моей непонятливости, – Но говорят, – и она опять перешла на шёпот, – что это передаётся по наследству…
– Что передаётся?
– Чертячество. По прямой линии. От отца к сыну. И как исполняется тридцать три года, человек начинает обёртываться… Вот сколько лет было папаше вашему, когда с ногами он…
– Сказочница! – донесся сверху настолько зычный и хлёсткий голос, что мы, нижние, все повздрагивали, – Детей пугать только и можешь! Умолкни! – попутчик завершил недолгую гневную речь, покрутил над полкой, как пиратским стягом, куделью бороды и снова вжал голову в подушку. Видимо, в старухиных домыслах "колдуну" не понравилось то же самое, что и мне, а именно – какой-то невнятный намёк на мой возраст и мою наследственность, из-за чего он и поспешил прервать повествование. Я ему был благодарен, потому что видел, как взволнованно реагирует на байку мой сын. Странный человек был бородач. Ещё на вокзале я заметил, что несмотря на заросшее волосяным убором лицо, незнакомец едва ли старше шестидесяти, моложав, и слово "старик", в общем-то, не вяжется ни с поджарым ловким телом, ни с сильным уверенным голосом. Держится с достоинством и опрятен: нет ни тени свойственной старикам неряшливости. Хотя, конечно, спать он улёгся не переодевшись. Завалился прямо на жёсткую обивку полки. Даже не взял у проводницы белья… Не во что переодеться, что ли? Или денег нет на постель? А, тем не менее, везёт с собой здоровенный чемодан. Да и деньги у священников всегда водятся… Багаж, вон, торчит пухлым кожаным боком из-под столика, и нам с Артёмкой некуда деть ноги. Интересно, из какого металла крест скрывает он под бородой? Золотой, серебряный? С каменьями или без? Сейчас-сейчас… Вот снова повернётся на другой бок, и рассмотрим…
Нет, всё-таки слишком пассажир проворен, ловок телом для священника. Нет поповской рыхлой опарности, которая бывает от нескончаемого поедания теста в постные месяцы и дни. Не поп. И не крест у него на гайтане – может, оберег? Деревянный вроде, не из металла. Треугольник какой-то вырезан, и непонятный знак внутри. Язычник, наверно, наш сосед. "Колдун", как подметила Марина Игнатьевна! Бывают и такие люди – интересны им дохристианские верования нашей земли – что ж такого, пускай…
Что же всё-таки станется с его штанами к концу пути… Изомнёт в гармошку…
Ещё я подумал о том, что у каждого, кому посчастливилось вырасти на малой родине, впитать уникальный русский фольклор: в деревне, селе или небольшом городишке – найдётся в генетических запасниках памяти и история про русалок, и небылица про леших с домовыми, или вот, предание о тех же оборотнях. Лишь мы с Артёмкой, столичные жители, не можем ничем похвастаться. Перевелась в Москве нечисть, закатали её вместе с садами, вместе с зеленью и даже речками под асфальт и сказок о ней не сказывают.
Около шести вечера, когда я понял, что за разговорами мы с Артёмкой так и не поели, проводница обошла всех пассажиров и раздала ставшие уже никому не нужными проездные документы. А Марина Игнатьевна ни с того, ни с сего начала вглядываться в наш с сыном оранжевый, купленный ещё две недели назад в предварительной кассе, картонный билет, и даже чуть было не выхватила из рук, чтобы рассмотреть получше… Если честно, меня подобная любознательность сильно покоробила, если не сказать, напугала… Так и не сумев прочесть, она задала не дававший ей, видимо, покоя вопрос:

