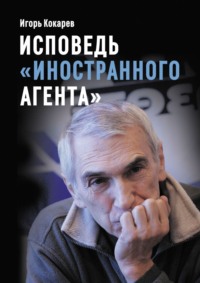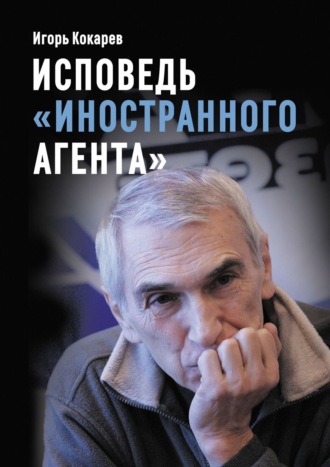
Полная версия
Исповедь «иностранного агента». Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет
Питер, ты что, охренел? Это же комсомольская стройка, а не концентрационный лагерь! Хотел послать им туда пару теплых слов, но посмотрел в испуганные глаза прибывших проституток и передумал. Потом поговорим, когда освоятся.
А речь тогда я держал такую:
– Перво-наперво вы должны понять, что здесь все же не Магадан, здесь, во-первых, тепло, а во-вторых, никаких бараков с колючей проволокой и вертухаев с овчарками. Общежития в пятиэтажках с горячей водой, свет, туалет, пусть и в конце коридора. Кухня, правда, общая, тоже в коридоре, ну так мы все из коммуналок, чем тут удивлять… А дальнейшее все в наших руках, как захотим жить, так и будет.
Привирал, конечно.
Позже, воюя с местным начальством за помещение для библиотеки, за байдарки и очистку берега озера для пляжа, за ставку руководителя художественной самодеятельности в клубе, я действительно убедился, что им не только глубоко наплевать на нас, но что им совершенно искренне непонятно, зачем это все нам.
В производство я не лез, но уже догадывался, что своем раже выполнять и перевыполнять они воспринимали нас именно так – как дурачков, готовых добровольно заменить собой заключенных, строивших и Комсомольск на Амуре, и Беломорканал, и многое чего еще тогда строили на Севере для войны, для победы. Во всяком случае ни в какой энтузиазм эти взрослые дяди, прошедшие войну, не верили и человеческие условия для жизни для рабочей силы создавать не собирались. Да и не умели, как я понял. Они служили партии.
Скоро я понял, что и местный, казахский колорит будет мало способствовать очеловечиванию жизни на краю советской Ойкумены. Возьмём например, комсомольского второго секретаря горкома, это всегда казах. И вот батыр едет на служебном газике в степь, берет барана у колхозного пастуха, как свою собственность, отдает забить его и, сварив дома мясо в прокопченной, мятой алюминиевой кастрюле, гостеприимно сует мне большие куски в рот руками. Уважение оказывает сын степей. Он в юрте жил сотни лет, ему там хорошо, уютно. И будет еще столько же, если не мешать.
Да и собеседник мой, чубатый русский первый секретарь (здесь первый – всегда русский) от него недалеко ушел. Я вижу, как он подливает водку своему семилетнему сыну, приговаривая:
– Учись, сынок, коммунизм строить. Пригодится!
Так нужен им всем здесь город будущего? Какие-то неведомые силы сплетали истории разных народов в одну серую, тягучую жизнь вдали от цивилизации. Такая вот получалась жемчужина сельского хозяйства огромной державы.
Когда-то меня поражала пропасть между сверкающими витринами Италии и улицами и магазинами Москвы. Сейчас потрясает еще больший культурный разрыв между Москвой и Каратау, между центром и провинцией огромной страны. Я бы понял, если бы видел просто две разные культуры – извечную казахскую и по соседству русскую. Но в том-то и дело, что ни той, ни другой…
Мы встретились с ней через год, как и обещал. Прилетел в Москву в ЦК с отчетом и позвонил с фразой из нового фильма:
– Здравствуй, это я!
Наташа рассмеялась своим смехом со спрятанной иронией, сразу узнала. И вот мы уже сидим в кафе на улице Горького, в дальнем углу на втором этаже. Она рассказывала мне, как снималась в кино, как после художественного училища работает художником в Московском театре оперетты под руководством знаменитого театрального художника Григория Львовича Кигеля, о котором говорила с искренней любовью.
Потом зачем-то описывала своих бывших женихов, в числе которых оказались и будущий знаменитый генетик Костя Скрябин, и Борис Маклярский, кандидат наук, сын известного сценариста, автора знаменитого фильма «Подвиг разведчика», и брат Майи Плисецкой Азарий Плисецкой, и модный поэт Игорь Волгин. Будто извинялась.
А я звал ее с собой. Будешь, мол, степь писать, казахов учить живописи. Она смеялась:
– Откуда ты такой взялся?
Хорошо, однако, что не уговорил. А то как стыдно было бы в конце концов.
В ЦК комсомола, наконец, выбил книги, целую библиотечку по своему вкусу. С ними и улетел, отчитавшись за проделанную работу. Прилетел, расставил их на полках, сняв дверь в платяном шкафу, потом сочинил объявление. И потихоньку потянулся народ за Солженицыным и Дудинцевым, Хэмингуэем и Ремарком, Евтушенко и Вознесенским, Аксеновым и Кузнецовым. Эти книги воспитали меня, и я хотел теперь, чтобы они поработали в Каратау.
Пришли и журналы «Новый мир», «Юность», «Иностранная литература». Тщась стереть грань между столицей и провинцией, таскаю их с собой на комсомольские собрания, раздаю желающим, чего-то рассказываю. Дай, говорят, почитать. Раздаю, потом собираю и спрашиваю:
– Ну, как?
– Да, ничего. Интересно.
– А подробней?
И тут начинается хирургическая операция по высвобождению из зашитого сознания каких-то эмоций и мыслей. Тут главное не перестараться, кого-то удается разговорить, а кого-то нет. Но и две-три фразы уже – клуб книголюбов. Название пышное, на самом деле привычка просто обмениваться впечатлениями от прочитанного между собой или как придется.
А еще пришло заказанное заранее оборудование для кино-фото лаборатории: фотоаппараты, фотоувеличители, даже одна 16-ти миллиметровая кинокамера с запасом кинопленки. У меня до нее руки так и не дошли, но нашелся энтузиаст, инженер Виталий, с которым мы иногда играем в шахматы у него в квартире.
– Давай мне. Разберусь, только скажи, что снимать.
– Знаешь, было бы классно снять заседание бюро горкома.
– Да кто ж меня туда пустит? Всех чертей перепугаем.
И, наконец, главный мой сюрприз: приезд студентов! О студенческих бригадах было договорено еще в Москве. И вот первой прилетели девчонки и сам Андрей Корсаков из Московской консерватории. Альтистка Галка, нежная душа, русая красавица с обложки журнала «Огонек», сдержала слово. Привезла с собой будущих знаменитостей в нашу глухую степь.
– Вот и мы! А ты не верил! – торжествовала она. И плавилось солнце в дрожащем от жары воздухе. Мы трясемся в автобусе по пыльной дороге в Джаны Тас, где шахты. Надев каски, спускаются консерваторки в клети, пригнувшись, осторожно оглядываются в темном и душном шурфе. Экскурсия перед концертом для душевной настройки. В обеденный перерыв в столовой собираются сто или больше шахтеров. Галка, на которую, не отрываясь, смотрят заскорузлые шахтеры, говорит по моей просьбе всего несколько слов:
– Сейчас будет чудо. Вы просто слушайте и молчите. Обязательно молчите. Не отвлекайтесь.
И божественные мелодии Сарасате из скрипки юного дарования Андрюши Корсакова полились прямо в сердца, открытые ожиданием. Вот, клянусь, ТАК эти здоровые мужики слушали музыку первый раз.
А за музыкантами месяц спустя прилетели и вгиковцы, привезли с собой кино. Мой любимый «Девять дней одного года» о нравственной, духовной красоте человеческих отношений, смотрели в клубе «Шахтер» при полном зале. Честный такой фильм в духе модных дискуссий о физиках и лириках со Смоктуновским и Баталовым, интеллектуальный коктейль для любителей. Поймут, не поймут? Примут, не примут?
Дискуссию вел самоуверенный киновед Юрий Гусев, комсорг ВГИКа с той же фамилией, что у героя фильма. Он начал было длинно подводить к научно-технической революции и ее последствиях для человечества, как его перебил голос из зала:
– Ты парень нам лапшу на уши не вешай. Мне завтра не к синхрофазотрону твоему, а к лопате с утра вставать! У вас своя жизнь, у нас своя. И не надо ля-ля про высокие материи.
– Но вы же хотите видеть свой завтрашний день, правда? Вы же строите город будущего! – нашелся Гусев. И смотрит на меня.
А ему снова из зала другой голос:
– Мы может быть бы и построили… Да только с одной лопатой без раствора и инструментов ни хрена не выходит. Да и город этот никому тут не нужен. Лишь бы комбинат сдать к сроку.
Теперь уже я смотрю на Юру. Вступить или промолчать? Вместо обсуждения высокого искусства зал тянул к низким истинам жизни. А что, в этом может быть и есть в конце концов миссия искусства? Не знаю. Но вмешиваться не стал. Меня и так здесь уже слышали. Решил, пусть Москва выкручивается, а мы поучимся. Но желающих высказываться больше не было, и Гусев закончил краткой рецензией.
После других просмотров – фильмов «Я шагаю по Москве», «Коллеги», «Все остается людям» и «Когда деревья были большими», обсуждения продолжались. Мной же овладевало странное ощущение какой-то неловкости перед сидящими в зале работягами. Уж очень разительным оказался разрыв между этими прекрасными фильмами и нашей жизнью. Потому когда Гусев предложил мне вести обсуждение, я отказался.
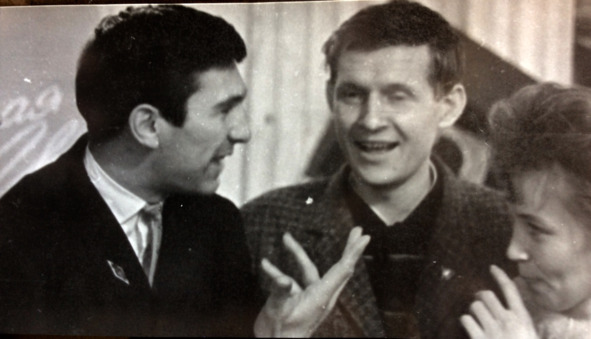
Юра Гусев, после дискуссии.
Но социологическим исследованием, которое он проводил, раздавая анкеты прямо в зале, я заинтересовался. Что мы читаем, смотрим, слушаем? Какие такие духовные запросы в нашем Каратау?
– А вы имеете разрешение на распространение печатной продукции? – спросил я Юру неуверенно.
Он рассмеялся:
– Да уже не надо никаких разрешений. Это просто анкетный опрос. С научными целями.
И мы пошли в народ. Раздавали анкеты прямо в зале после просмотра. Анкеты были анонимными, и люди отвечали охотно. Даже о том, о чем не спрашивали. И вот так и прорвались секреты, за которые наверное отвечал местный КГБ. Вкусы вкусами, но вот кто-то вдруг написал об отсутствии воды для промышленных нужд строящегося комбината, кто-то про то, что комбинат вообще не по тем чертежам строится. Хорошо, что Юра не обязан был сообщать о результатах опроса нашему майору.
Уехали студенты, увезли анкеты. А к нам своим ходом пригнали из Москвы новенький голубой агит-автобус «Красная гвоздика». Что-то не помню, чтобы я его заказывал. Но, видно, Чурбанов решил поддержать своего засланца. Что с этим автобусом было делать? У меня и прав нет. А водителя где взять? Пока бились с Горкомом партии, куда его на баланс поставили, чтобы переименовать с гвоздики на «Алые паруса». Сколько энергии было потрачено, мы шли на принцип. И добились!
Из тех питерских «тунеядцев» нашелся один с правами, говорит, папину машину водил. Прав его я не видел, но водить он, и правда, умел. Ничего, в степи светофоров и гаишников нет. Теперь можно и агитбригаду создавать. На автобусе по шахтам, на стройку, к пастухам.
И начались репетиции. Состав подобрался легко, многие откликнулись. И, главное, все оказались такими умными, не хуже, чем в Одессе. Одна девчонка запела так, что воздух степной в ответ зазвенел. Высоко уходил звук, к звездам. Костер, ночь теплая, бесконечность.
Да что там столичные… Казах пришел однажды. С домрой. Мы сели в кружок, уставились на него. И зазвучали странные, простые трезвучия. Степь их услышала сразу, а мы, русские, уже вслед. Здорово, когда душа поет, хоть в степи, хоть в море, хоть в городе. В море, правда, не очень пелось…
Парень один, неуклюжий, большой, стихи стал читать, тихо так, незаметно:
Мимо ристалищ, капищ,мимо храмов и баров,мимо шикарных кладбищ,мимо больших базаров,мира и горя мимо,мимо Мекки и Рима,синим солнцем палимы,идут по земле пилигримы.Ну, я вздрогнул. Он глянул на меня, остановился:
– Что, нельзя?
Я просто продолжил:
– Увечны они, горбаты,голодны, полуодеты, глаза их полны заката,сердца их полны рассвета.За ними поют пустыни,вспыхивают зарницы,звезды горят над ними,и хрипло кричат им птицы:что мир останется прежним,да, останется прежним,ослепительно снежным,и сомнительно нежным,мир останется лживым,мир останется вечным,может быть, постижимым,но все-таки бесконечным.И, значит, не будет толкаот веры в себя да в Бога.Он закончил тихим, глубоким, как будто уходившим в сухую землю под ногами голосом:
– …И, значит, остались толькоиллюзия и дорога.И быть над землей закатам,и быть над землей рассветам.Удобрить ее солдатам.Одобрить ее поэтам.От него я и узнал, что как раз в это время двадцатидвухлетнего Иосифа Бродского осудили тоже, как и их, не за инакомыслие, а за тунеядство. И сослали на пять лет. Жаль, не к нам, а в Архангельскую область.
Мы с этим «инакомыслящим» как-то ушли в степь и проговорили всю ночь, находя много общего в размышлениях о жизни, о счастье, о родине и о судьбе. Водка из горла и горький «Беломор» без фильтра. Были такие папиросы. Прикуривали одну от другой, смотрели на звезды, будто общались с ними. Они мигали в ответ.
– Ты знаешь смысл жизни? Вот зачем ты здесь? Нашел своё счастье?
Он пытал меня, как на допросе, залезал в душу, как иголки под ногти загонял.
– Ты говоришь, здесь воздух чище? Да, здесь голая степь. Там мы хоть в «Сайгоне» оттягивались, забивали на всю эту советскую действительность. Андерграунд, рок и…
– Наркотики?
– Да, разное бывало. Потому что мы хотели свободы, искали себя…
Ну, про кафе «Подмосковье» по прозвищу «Сайгон» на Невском я знал. Меня еще Валера Цымбал водил туда пить лучший в Питере кофе. Но тут я вспомнил про американскую пару – Джима и Дайану на круизном лайнере, на котором мы шли вдоль крымского побережья. Сказал задумчиво:
– Они были свободны, но радости им это не принесло.
– Почему?
– Наверное, потому что человек абсолютно свободный теряет смысл жизни.
– А в чем был смысл загнать меня сюда, в голую степь с казахами и овцами?
– Чтобы построить новый прекрасный город, где все будут счастливы!
– А я хотел этого? Меня спросили?
Вот тут мне сказать было нечего, но в душе еще оставался след от той печали, с которой говорила Диана о том, что они никому не нужны. Да, я помнил, что у них с Джимом не было детей, они были не готовы обременять себя ими. Они не были ни художниками, ни учеными, просто хорошо зарабатывали на жизнь. Зачем? И тут я сказал этому парню из Ленинграда:
– Может быть затем, чтобы помочь тебе найти смысл жизни? Не в Питере, так здесь. Найти себя, вырази себя в чем-то, придумай здесь «Сайгон», создай что-нибудь своё. Своё, понимаешь?
– Для кого? Для казахов?
– Для себя, черт возьми! Для себя! Кофе что ли тут нет? А андерграунд я тебе обещаю. Через Москву достанем. Только давай, шевелись. Сделай что-нибудь!
Конечно, смысл жизни лежал где-то еще глубже, и мы понимали, что «Сайгон» был лишь тропкой к себе, к тому, заложенному в нас при родах, что всегда ищет выхода. Ибо только тогда жизнь и приобретает смысл.
О чем еще говорили? Да мало ли о чем можно говорить выпивши, ночью, в тысячах километров от всякой цивилизации? Это был тот редкий момент истины, когда ты действительно поднимаешься к звездам и видишь оттуда нашу планету и себя на ней пылинкой, несомой космическим ветром времени. Печаль и грусть пылинки – моя грусть. После той ночи, обкурившись до тошноты, я и бросил курить…
А утром снова на бюро – выбивать у комбината и у Горсовета именем комсомола помещения под библиотеку, под изостудию, доказывать необходимость в еще одном детсаде, в музыкальной школе, в филиала какого-нибудь ВУЗа для молодежи комбината. Но общаясь с руководством города, мы постепенно понимали, осознавали, что старшие товарищи в общем не плохие люди, просто их руками партия продолжает воевать. Не жить, а именно воевать за выполнение и перевыполнение планов, требуя беспрекословного подчинения – все, как на войне. А мы хотели мира, любви и смысла в труде и жизни. Не многого же хотели…

Хорошие люди есть везде. Надо их только поискать. И найти. Каратау, 1965.
Было мне тогда двадцать четыре года. Еще или уже? Мы сидели у костра, я травил морские байки про Бразилию, Японию, Сингапур, про штормы и штили, про гигантского грифа, залетевшего на нашу палубу с близкого берега Западной Африки, про летающих рыб и жадных акул… Потом кто-то тронет гитарную струну и запоет голосом Булата «Последний троллейбус»… Какие яркие звезды здесь над головой…
Может это и есть счастье? Здесь, с вами, ребята. И такими понятными казались нам слова Назыма Хикмета:
…Если я гореть не буду,Если ты гореть не будешь,Если мы гореть не будем,Кто ж тогда развеет тьму?Тихой лунной ночью шли мы с репетиции. Ночная степь пахла сухими цветами. Вдруг сзади сгустилась опасность. За спиной нарастал глухой топот. За нами гнались?
– Бежим! – выдохнул я, и мы понеслись. Злая, тупая темная сила догоняла. Дышала в спину. Кто? За что? Я сбросил вьетнамки. Сзади чем-то больно полоснуло по шее. Челюсть хрустнула. Зубы? Не оглядываясь, впрыгнул в дверь общежития и успел захлопнуть ее перед разъяренной темнотой.
В госпиталь, куда меня положили с выбитыми солдатской бляхой зубами и рассеченным затылком, пришли стройбатовцы извиняться. Оказывается, они искали курда, который изнасиловал невесту одного из них. Про местных курдов я еще не то слышал. Здесь их целое поселение. В армию их не берут, они не граждане СССР. Они охотятся за русскими девушками, ибо по их законам ребенок, рожденный от курда, считается курдом. Так они пополняли убыль своего народонаселения. Красавцы входили в женское общежитие, запирали дверь и начинали по очереди оплодотворять всех. Одна вскочила на подоконник:
– Не подходи, выброшусь!
Он подошел. Я видел кровавое пятно под этим окном. Их даже не судили. Откупились, говорили знающие люди. Тут свои законы.
А по каким законам обострялись мои отношения с Горкомом партии и дирекцией комбината? Я начинал понимать, что никаким культурным десантом, никакими клубами по интересам и спортивными праздниками город будущего не построить. Города-то в общем действительно никакого нет. И не будет. Про комбинат я уже знал, что строят его по чертежам действующего завода за Полярным кругом. Только тот перерабатывает хибинские аппатиты. А у нас фосфориты. Может, оно и так сойдет, кто его знает. Говорят, что аппатиты, что фосфориты, один черт. Зато сдадим раньше срока, премии там, награды. И кому нужны реальные градостроительные планы, инфраструктура культурных объектов?
И все же Горком комсомол на бюро Горкома партии вынес вопрос о ремонте клуба «Горняк». Мы предлагаем своими силами, всем народом починить крышу, передвинуть стены, выкроить комнаты для кружков и библиотеки. А нам в ответ:
– Не Горком решает эти вопросы! Если очень хотите, пишите письмо в ЦК КПСС… Копию – в Совмин Казахстана. Только серьезно, как полагается, пишите записку: «О постановке культурно-массовой работы и культурного строительства в Каратау». Выделят средства, мы тогда и архитектурный проект закажем, и все построим. У города же нет своих средств на строительство, как вы не понимаете?
И правда, не понимаем. Но готовим письмо, хорошее такое письмо, с подробностями. Предлагаем не только отремонтировать старый клуб «Горняк», прибавив сцену для народного театра, но и выстроить отдельно спортзал, водную станцию на озере, городскую библиотеку, открыть музыкальную школу.
Подпись первого секретаря Горкома комсомола я выбивал из перепуганного парня целую неделю. Вторая подпись была моя как уполномоченного ЦК ВЛКСМ.
И грянул гром. Сам секретарь ЦК комсомола Казахстана Ибрагим Амангалиев вдруг прикатил на машине из Алма-Аты:
– Я за тобой. Выступишь на Пленуме ЦК комсомола с вашим предложением. За такое письмо надо отвечать, брат.

После выступления в школе
Обратно гнали ночью по извилистой горной дороге. Ибрагим читал мне стихи Олжаса Сулейменова, знакомого еще по Москве казахского поэта, влюбленного в свою бескрайную степь:
Страданием? Старанием великмой странный мир, родившийся старателем!О Азия, ты стольких нас истратила!Опять костры для дыма расцвели.Я просил еще из Олжаса, и он продолжал:
Я поеду в адайские прерии,Там колючки, жара, морозы,Пыль и кони такие! Прелесть!Я поеду к себе на родину…Мы хорошо тогда поговорили. Я больше слушал.
– Мы, казахи, древний, степной народ. Москва нас вечно куда-то торопит: целина, Семипалатинск, теперь Каратау. Мы кочевники, люди степей, пойми это. «Люди летом уходят к морю, а нас тянет в сухие степи». Это он сказал.
Тут машина резко тормознула, нас развернуло поперек дороги, и задние колеса зависли над пропастью. Над звенящей темнотой на горизонте улыбалась луна.
– Бывает. Батыр за рулем вздремнул, – невозмутимо сказал секретарь ЦК ЛКСМ, наблюдая, как передние ведущие вытаскивают нас на дорогу.
Дальше я предавался размышлениям над его словами. Ведь это их степи, их дом, куда мы пришли со своими пятилетними планами. И теперь я стараюсь, строю под себя этот город, ничего про них не зная, кроме Чингиз хана и Золотой орды. Что я скажу им завтра на этом Пленуме? Уж теперь точно не то, что хотел. Надо искать другие слова.
И все-таки говорил. О голубых городах будущего, о развитии личности и праве на счастье. Но и о бараках, об убогости быта молодежи, о душевной пустоте, о пьянстве, о фальшивых трудовых победах. Зал молчал. А я требовал от руководства республики средств на городскую социальную и культурную инфраструктуру и в конце сказал:
– Запустение – везде запустение. Невнимание к нуждам людей – везде невнимание, а значит, неуважение к человеку. И неважно, казах он или русский, украинец или татарин. Нас учили: «Человек – это звучит гордо». И потому прошу Пленум поддержать наше право на достойную жизнь здесь и сейчас, а не только для наших детей и внуков через сто лет.
Зал продолжал молчать. Слегка трясло от собственной храбрости. Амангалиев же сказал не то одобрительно, не то осуждая:
– Ты свою задачу выполнил? Совесть чиста? Теперь езжай обратно, никакого обсуждения не будет. Получи в бухгалтерии билет на поезд до Каратау. Будь здоров.
Через неделю я узнал, что на меня в КГБ пришла анонимка. Майор особист вызвал к себе и показал бумагу.
Сообщаю вам, что никакой этот Кокарев не моряк. Ни в какой одесской мореходке он не учился. Заграницу не плавал. Диплом поддельный. Это проходимец, который морочит нам всем голову. Считаю, что им надо заняться органам».
– Что это такое? – спрашиваю, а у самого мороз по коже.
– Как что? Обыкновенная анонимка. Как раньше писали, так и сейчас пишут. А ты не знал? Так что разоблачили тебя, вожак комсомольский.
Думаю, шутит особист? Он-то знает, что перед решением ЦК о назначении на стройку мое прошлое не раз рентгеном просветили. Но из головы не выходит: вот так, значит, выглядят доносы. Пустяк? А такой бумажки, нацарапанной неизвестно кем, может быть и соседом, достаточно, чтобы попасть под раздачу. Расстрел или десятка в лагерях, через этот кошмар прошли миллионы…
Раз уж анонимки пошли, отступать некуда, надо дальше действовать. Сажусь и пишу в «Джамбульскую правду» статью под названием «Кладовая фосфоритов все еще на запоре». Что-то вроде того, о чем говорил на Пленуме, но резче. И снова подписываюсь: Уполномоченный ЦК ВЛКСМ по идеологической работе.
То, что я нажил себе теперь врагов, понял сразу, как только вышел номер со статьей.
– Доносы строчишь, сучёнок? – это главный инженер шахты, мимоходом. Может, послышалось? Но нет, злобный взгляд не оставлял сомнений.
– А то, что вы молодежь за зэков держите, это как, нормально? – Успел крикнуть вслед..
Значит, я должен был молчать, как молчат все? Тогда зачем я здесь? Доносчик? Я писал под своим именем. И выступал на Пленуме. Но все равно на душе не облегчение, а будто виноват в чем-то. Я же еще и виноват… Не выдержал, написал длинное письмо в Москву Вадиму. Был в том письме такой пассаж:
«Поднять народ на хорошее дело, Вадим, мы умеем. Здесь такие ребята, вот с кем бы коммунизм строить. А выходит, их обманули. Зачем „Комсомолка“ тем сентябрьским номером всколыхнула всю страну, дала надежду на голубые города, где все будет по чесноку? Приехали тысячи по призыву партии, а здесь… ни работы, ни жизни».