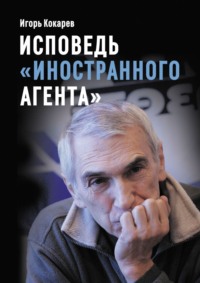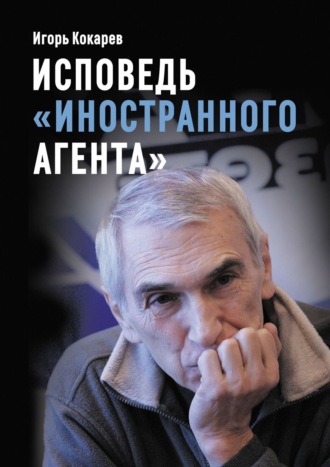
Полная версия
Исповедь «иностранного агента». Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет
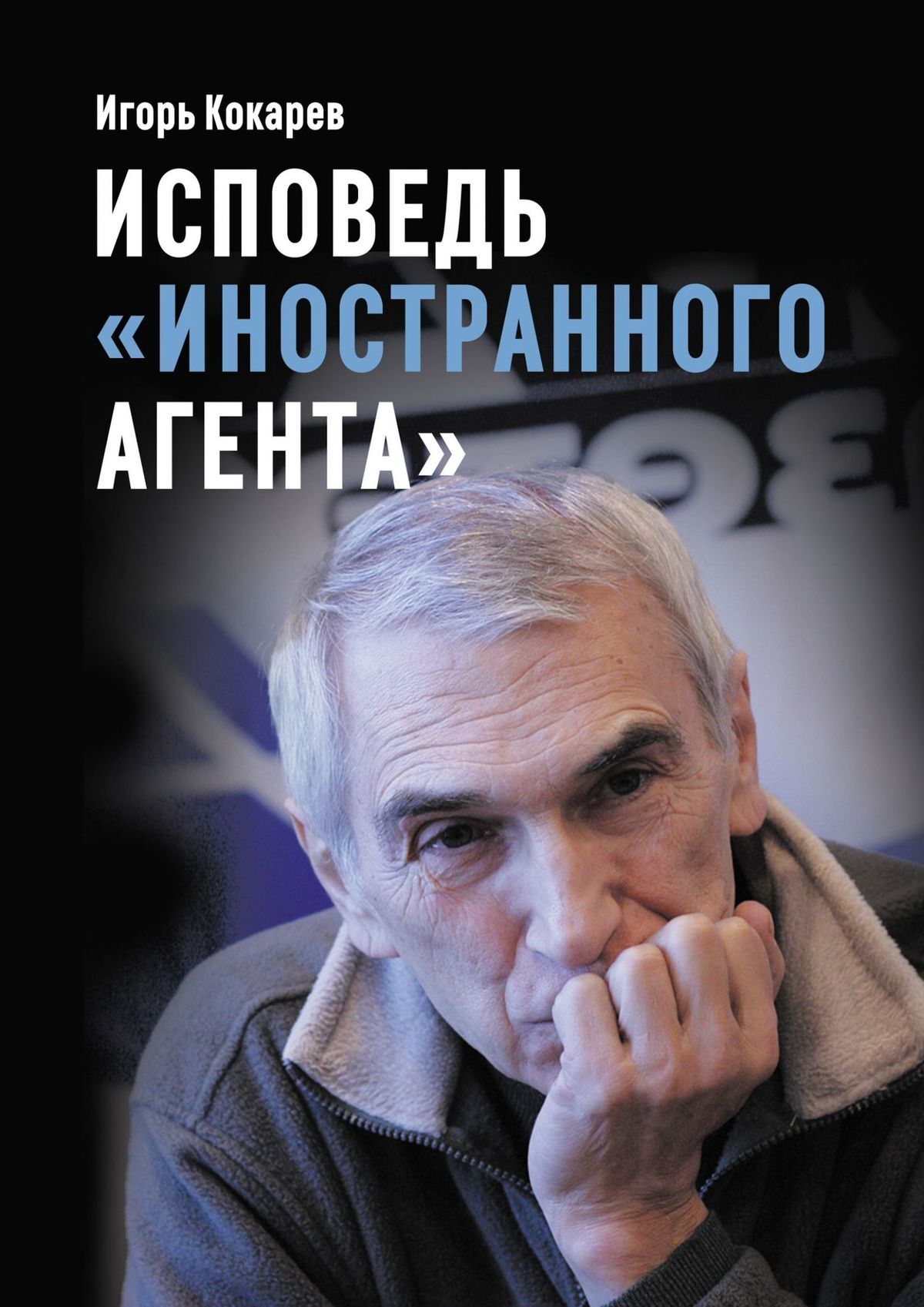
Исповедь «иностранного агента»
Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет
Игорь Евгеньевич Кокарев
© Игорь Евгеньевич Кокарев, 2025
ISBN 978-5-4485-3664-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Подкупает летящая легкость слога, которая, надеюсь, не исчезнет при переводе на другие языки. Рекомендую всем, потому что хотя и пунктиром, но очень ёмко в этих тире и умолчаниях между ними видна жизнь как в СССР в хрущевскую «оттепель» и в период застоя, так и в перестроечный период «лихих», но таких живых 90-х и уныло стабильных годах путинского режима.
Павел МеньшуткинЭкс-глава Пинежского районаАрхангельской области,Советник министра сельского хозяйства Архангельской области_________________________________
Эта книга в общественной своей части очень важна для понимания свинской сущности постсоветской и, следовательно, нынешней власти (и пусть свиньи на меня не обижаются).
Власть продолжает оставаться глухой и манипулятивной в вопросах общественного развития, паразитируя в то же время на добровольческих и экспертных ресурсах третьего сектора.
Пока это будет продолжаться, взаимодействие с этой властью будет приводить к новым и новым разочарованиям. В этом смысле «Исповедь…» – очень важный пример описания точечного (в личном и организационном плане) опыта взаимодействия со столичной и федеральной властью. Каждому, кто в общественном секторе вступает во взаимодействие с ними должен иметь ввиду этот опыт. Эта книга была важна и для меня в этот момент жизни для переосмысления и своих собственных попыток и их результатов.
Нодар Хананашвили, к.ю.н.вице-президент фонда«Нет наркомании и алкоголизму»,Член Общественного совета при правительстве Москвы________________________________
С большим удовольствием прочитал книгу Игоря Кокарева «Исповедь «иностранного агента». Эта книга вмещает в себя период от 60х годов прошлого века до наших дней, и является очень верным зеркалом всего этого времени… Здесь много мест действия – и Одесса, и Москва, и США.
Автор обладают острой наблюдательностью, и феноменальной памятью: он сохранил для читателей многие детали времени: сотни, если не тысячи, героев появляются на его страницах, и всемирные знаменитости, и совсем простые обыкновенные люди. И все вместе они создают очень точный и искренний портрет эпохи, портрет очень разный, порой нежный, порой трагический, всегда точный. Мне кажется эта книга будет бесценна для людей нашего поколения, и безусловно, будет интересна и для тех, кто идет за нами…
Александр Журбин, композиторК читателю
Совместная Победа над фашистской Германией, смерть Сталина, хрущевская оттепель, брежневско-черненковский застой, горбачевские гласность и Перестройка, сопротивление реформам и распад СССР, неудавшиеся попытки демократизации послесоветской России, чекистский реванш и агония империи – эти исторические вехи России на протяжении сознательной жизни моего поколения, моей жизни.
Она стоит того, чтобы о ней рассказать, осмысливая жизнь в потоке этого времени, потому еще что с младых ногтей выгребал на стремнину. Миру известны истории знаменитых диссидентов, вступивших в открытую борьбу с репрессивным социализмом и терявших свободу или родину, а то и жизнь в этой борьбе.
Моя история другая. Она о невидимой, мучительной борьбе с самим собой, о драме выдавливания из себя по капле раба чудовищного социального эксперимента, совершенного в моей стране партией, которая называла себя «умом, честью и совестью нашей эпохи». Почти пятьдесят лет выпало жить при социализме, находя смысл и удовлетворение в попытках его очеловечивания.
А потом пришел как-то легко и вдохновенно Михаил Сергеевич Горбачев. Он привел в движение «новым мышлением» всю страну, включил рычаги экономических интересов, закончил бессмысленную и затратную холодную войну, открыл границы и выпустил на волю слово. Но оказалось, что созданная большевиками система ремонту не подлежит. Путч 1991 года доконал СССР. Горбачев гордо ушел, оставив Россию Ельцину.
Как сухие листья, осыпались республики, и обнаженная Россия на семи ветрах истории, подхваченная вихрями экономических бурь в пустыне демократических институтов, закружилась, завертелась, теряя дорогу, сбитая с пути яростным сопротивлением недобитых строителей коммунизма.
Будучи непоколебимым сторонником демократических реформ, я искал свой путь в стороне от большой политики и большого бизнеса, там, где закладывались основы гражданского общества. Следуя совету Солженицына, увлекся территориальным общественным самоуправлением – самоорганизацией жителей вокруг коммунальных и прочих проблем местного значения.
Инфраструктуру низовой демократии в кризисной России помогал создавать Запад в надежде на то, что власти подхватят энергетические потоки гражданской активности, идущие снизу. Но время было упущено. 20 лет застоя сделали свое черное дело. Если бы Горбачев пришел сразу после Хрущева, и если бы у него хватило решимости на трибунал над КПСС, мы бы спасли страну.
Но нарождающееся гражданское общество, не получив поддержки от слабого, мятущегося аппарата власти, окажется раздавленным катком репрессий. А на место советской идеологии как-то незаметно, с черного хода большой политики вползет идеология «русского мира», «русской православной цивилизации», «Третьего Рима», призванного спасти загнивающий западный либерализм. Жертвой и носителем этой идеологии и стал получивший из рук беспомощного уже Ельцина верховную власть в стране полковник КГБ Владимир Путин.
И все же гражданское общество как-то проклюнулось. Уже первые общественные организации социальной сферы в 90-х заложили основы гражданского общества, доказав желание и способность рядовых граждан вырваться из оков патернализма и сделать личные, коллективные интересы мотором общественного развития.
Мой долг сохранить свидетельства того, как странная эта наша власть на всех своих уровнях сопротивлялось демократическим инициативам низов, как вопреки ей рождались формы территориального общественного самоуправления, как начинал работать социальный капитал местного развития.
Что такое совесть и откуда она берется, не знаю. Знаю только, с ней шутить нельзя. Можно потерять не только покой, но и самого себя. Можно пережить неудачи, даже чью-то ненависть стерпишь, когда твердо знаешь: жил и действовал по совести. По совести подставляли мы плечо под не окрепшую российскую демократию. Мы были там, внизу, где под слоем пепла тлела похороненная большевиками и затоптанная их наследниками русская демократия – чеховское земство.
Нас было ничтожно мало для такой огромной страны – тех, кому пришлось взять на себя миссию социального аниматора искаженного идеологией общественного сознания, у которого частный, личный интерес был задавлен государством-Левиафаном, созданным партией большевиков и ее чекистами сначала под лозунгами светлого будущего, потом под камлание о «русской духовности» и «особом русском пути».
Не отрицая роли государства, мы добивались его десакрализации, продвигая на историческую сцену нового для России посредника между населением и властью – гражданское общество как организованную силу.
И сегодня, оставшись в меньшинстве, мы остаемся верны правам человека, верховенству закона, разделению властей, национальному государству и демократии места. В них будущее России.
Моя благодарность Агентству международного развития США, фонду Форда, фонду Евразии, фонду Ч. С. Мотта и Британскому Совету. Они помогали делать то, что я считал нужным для своей родины.
Спасибо моему другу, физику и лирику, Виктору Косогорову, а также моей спутнице жизни в изгнании, любимой женщине и умнице Еве Андреевой, без которой жить дальше не имело бы смысла, за их творческое участие в многочисленных редакциях этой книги, а также издательству Ридеро.ру, открывшему фантастические возможности книгоиздания XXI века.
Много добрых слов хочется сказать моим коллегам и соратникам, всем хорошим людям, с которыми прожита лучшая часть жизни – незавершенное обновление России. Спасибо вам.
Боль моя, ты покинь меня…
Что осталось от этих возвышенных чувств сегодня в этой протухшей, зашедшейся от ненависти ко всему миру жестокой и злобной стране? Плачу…
И не надо обвинять меня в русофобии, предательстве, неблагодарности – вся моя сознательная жизнь отдана ей. Как оказалось, зря. Для нее. Не для меня. Ибо иначе я не мог, и мне нечего жалеть. Если бы все начать сначала, я бы прожил ее так же…
А ее жалко…. Какая возможность потеряна, надолго. Если не навеки…
Микаэл, ты, конечно, сделал больше, намного больше. Но тогда, когда ты наигрывал мне, нащупывая, эту мелодию, мы чувствовали с тобой одинаково. Любовь к ней захлестывала нас…
Июнь 2025, Лос-Анджелес
ЧАСТЬ I: ВРЕМЯ НАДЕЖД…
Глава 1. Одесса 60-х. оттепель
Да, город этот мечен нами,
И запах держит старый двор…
И только крепнет он с годами
И тянет нас на разговор…
Что я оставлю детям? Не деньги, их у меня никогда и не было. Откуда деньги у советского человека? Другие ценности, на которых держалась жизнь, как на прочном фундаменте, важнее денег. Может быть, это гены… А что знаю я о своих генах? Сожжены, уничтожены все следы – даже письма и фотографии деда, казачьего офицера, погибшего в 1905 году под Мукденом. Да и в истории моего народа много чего скрыто, уничтожено, запутано… Пусть хоть дети мои узнают, от кого они…
Так случилось, я родился в Одессе. Между Оперным театром и городским сквером. Это много значит для тех, кто понимает. Но еще важнее, когда. Сразу, как закончились кровавые тридцатые. Подумать только, как повезло: выскользнуть из жутких лап коллективизации, из молотилки Большого террора, из мясорубки страшной войны, но до самой мужской зрелости ничего не знать об этом. Счастливчик…
Здесь, от Оперного через бульвар, открывавший весь порт и море, к колоннаде Воронцовского дворца и к школе Столярского у Сабанеева моста с видом на далекую Нефтегавань, глаз привыкал к красоте и морскому простору.
А вот детства у нас не было. Его отняла война. В Одессу из эвакуации мы вернулись из Владивостока в 1945-м. Полподъезда было снесено бомбой вместе с квартирой соседей. Наша с остатками лестницы сохранилась. Первое время поднимались на пятый этаж, держась за перила и не глядя вниз. За городской баней, где мылись по субботам всей семьей, был известный только нам, пацанам, подземный ход в катакомбы с костями не то людей, не то каких-то животных.
Потом была Румыния, отец принимал на Дунае разные суда в счет репараций. Мотался с ним на студебеккере по горам Трансильвании, в Бухаресте в генеральском особняке возле Военной Академии на улице Хереску ненавидел уроки музыки, читал первые книжки. За три месяца на улице научился румынскому. Там, на Хереску, нас и обокрали ночью цыгане из табора, светившегося кострами за Академией. В Браила, где мы жили позже с отцом, украли уже меня, семилетнего. Но я сбежал из табора и спрятался в нашей воинской части, в клетке с кроликами. Потому что там была морковка.
Зимой 1947 года видел из окна короля Михая, которого заставили отречься от престола. Красивый, молодой, в сопровождении конной гвардии, он стоял в открытой машине и прощался с народом, уходя в эмиграцию. Зима была неспокойной, вечером около посольской школы выстрелом в затылок убили одноклассника сестры.
После этого советских детей приказано было отправить на родину. Нас с сестрой, уже кончавшей в Бухаресте девятый класс, пароходом в Одессу – на попечение бабушки Мани, Марии Степановны, родившейся еще до революции в болгарском поселении под Одессой. Её брат, добрейший дядя Спира, командовал одесской железной дорогой.
Для счастья нам достаточно было знать, что впереди ждет, не дождется светлое будущее всего человечества. Мне предстоит его приближать. Жизнь в стране только что победившей Германию – это кусок черного хлеба с жесткой конской колбасой, стакан чая с куском сахара перед школой и песни советских композиторов. Ни холодильников, ни телевизоров, ни телефонов, ни ванн у нас не было. Воду носил из колонки во дворе на пятый этаж ведрами. Но был горд, что родился в СССР, а не в загнивающей Америке, где негров вешают.
А еще у одесских мальчишек было море – чистое, зеленоватое у заросших мидиями осколков скал. Море и книги. Аккуратным почерком записывал каждую прочитанную… Вот она передо мной, полуистлевшая тетрадка, которой 70 лет. В ней целая библиотека, огромный мир, в который предстояло войти и сделать его справедливым, красивым и счастливым. Если партии удалось вывести породу советского человека, то это я. Будущее звало за пределы планеты Земля, завораживало романами Ефремова. Про Оруэлла мы ничего не знали. В бога не верили.
Ранним летним утром добегали пацаны до Ланжерона, влетали в прохладную плотную воду и легко проплывали всю дикую, заросшую степным пахучим ковылём Отраду, выбрасывались на горячий уже песок в Аркадии и спали под палящим солнцем, черные, как сухие коряги, до обеда. Просыпались, чтобы с наслаждением проглотить за двадцать копеек четыре пирожка с потрохами, выпить на пятак газировки. И обратно морем. Но, уже не торопясь, выходя к рыбакам в Отраде похлебать из солдатского котелка юшки.
Дома баба Маня уже наготовила миску салата из степных помидоров, с луком, с картошкой, с огурцами и с постным маслом. Набьешь голодное пузо – и в городской садик у Дерибасовской. Там летняя эстрада, концерт московских звёзд. Через забор – и на тёплый еще асфальт перед первым рядом: пой, Ружена Сикора, мы здесь. Счастливые, вечно голодные, советские дети пятидесятых, строительный материал коммунизма во всем мире…
Потом вернулись из Румынии родители, и отец сразу ушел в море. А бабушка вернулась в Москву, в Томилино, к другим детям. Мы остались с мамой. Рита училась в музыкальной школе, а от меня, наконец, отстали с этой музыкой. Когда умер Сталин, гудели заводы, сигналили автомашины, я стоял, держа руку в пионерском салюте. По маминым щекам текли слезы. Все ожидали конца света. А Юрка Бровкин зло выковыривал глаза на портрете в учебнике. Нам было по тринадцать, мы дружили. До этого дня. До кровавой драки. Тогда и сказал что-то странное разнимавший нас учитель химии, печально обводя взглядом класс:
– Кто знает, может быть в таких драках и вырастают будущие вожди.
…Осенняя слякоть, старушка несет с базара в обеих руках кошелку, авоську, бидон с молоком. Помню крышку бидона, нечаянно сброшенную полой пальто прохожего прямо под ноги, в жидкую, чавкающую грязь. Я поднимаю ее, протираю сначала рукавом, потом своей белой рубашкой насухо и прикрываю ею бидон. Смотрю, а старушка плачет, глядя на мои неуклюжие старания. Обожгло меня. И у самого слезы. Что это было? «Стрела добра пронзила его сердце». Из книжки фраза. Не из Библии.
Да, мы книжные дети. Читать было страстью: «Как закалялась сталь», «Тимур и его команда», «Люди с чистой совестью», «Молодая гвардия», «Двенадцать стульев», «Спартак», «Овод», «Белый клык», «Старик и море», Диккинс, Бальзак и Маяковский… Горьковское «Человек – это звучит гордо!» представлялось как образ всечеловеческий, планетарный. А лермонтовское: «А он, мятежный, просит бури…» волновало и требовало жертвы.
Прочитанное, услышанное, впитанное живет в какой-то таинственной конфигурации в подсознании, создавая разных мальчишек и девчонок. Я не думал тогда о том, что Юрка Бровкин мог знать то, чего не знал я. И что вообще-то люди все разные, и мир они могут видеть иначе, не так как я. Не знал пацан, что где-то, спрятанная по спецхранам, существовала и другая литература – Замятина, Бердяева, Бунина, Платонова, Набокова…
Томик Есенина мать рассерженно вырвала из рук и выбросила с балкона. Он летел прямо на головы прохожих:
– Не смей читать эти декадентские стихи! О самоубийстве думаешь?
Оберегала от чего-то, одной ей ведомого. Она была мне и отцом и матерью. В городе моряков это не редкость. О своей молодости она не рассказывала, о голоде, о продразверстке, об ужасах процессов 30-х годов ни она, ни отец никогда – ни громко, ни шёпотом – не вспоминали.
О деле врачей мы уже узнали и сами. Неужели и там? Опять враги? Мы же всех победили! Но раз в «Правде»… Как не верить! Маму лучше не спрашивать, у нее самой ужас в глазах. И заботы: сберечь детей. Вот и крутилась по дому – одеть, обуть, обстирать, накормить, чтоб друзья были нормальные, и все с неизменной папиросой в зубах. Сколько помню, она всегда курила, с самой войны. Курила «Приму», полторы пачки в день.

Мама, когда меня еще не было.
– В бараний рог скручу, но сделаю вас счастливыми! – твердила она эту непонятную мне фразу.
Она была в ответственности за нас перед отцом. Мама, бросившая из-за войны медицинский, спасла нас с сестрой, вытащив на себе малышей из горящей Одессы через всю воевавшую страну аж на Дальний Восток. По дороге за блюдечко манной каши отдала золотое обручальное кольцо. И тем спасла мне жизнь.
Отец, ходивший в 1942-м механиком в караванах с грузами лендлиза из Ливерпуля в Мурманск (те самые «караваны смерти»), отлежав полгода в госпиталях, нашёл нас во Владивостоке только в 1944. И всю жизнь был благодарен матери, сохранившей детям жизнь в то невероятно, немыслимо тяжёлое время. Охраняла она нас и теперь, в 50-х. Умрет мама рано, в 66 лет от разрыва сердца. Я тогда упал на гроб и, запоздало рыдая, долго не отпускал ее.

Отец, когда я уже был.
Отец в дальних рейсах, но он влиял на меня самим фактом своего существования. Авторитетом, которым пользовался на флоте. Инженер-механик, «дед», механик-наставник, парторг, ордена за труд. Не в торговле все же… В машинном отделении, в его каюте все было на своих местах. И ни пылинки. Его любили все, кто с ним работал. Он не пил, но у него было много друзей, может быть из-за его мягкого характера? Он это умел, дружить. И я это перенял от него. Неосознанно, конечно. Вот и выбирали старостой класса, председателем совета пионерской дружины школы. Доверяли и учителя и товарищи.
Моими подшефными в 7-м классе были тертые хулиганы братья Лысенки. Мне, не ударившему в жизни ни одного человека, были страшны их кулаки, хотя и защищавшие меня. Я видел, как старший брат, вызванный к директору школы за хулиганство одного из младших, тут же в кабинете ударом ноги в живот вплющил пацана в стенку, и тот сполз на пол, теряя сознание.
Пробьет час, и один из братьев в составе элитных войск КГБ будет штурмовать дворец Амина в Афгане, и умрет от ран в неполные 50 лет. Прощаться с Мишей приедет весь класс постаревших одноклассников.
С корешем моим, Юркой Марковым, на заросшем виноградом балконе, с которого была видна синяя полоска моря и Военная гавань, готовились к выпускным экзаменам. Размышляли о будущем, о науке, вырвавшей человечество из лап религий, о смысле жизни, овладевающей Космосом, о едином человечестве без оружия и войн, и ощущали себя частью вселенского разума, несущегося к коммунизму.
В аттестате у меня одна четверка и одна тройка. Четверка – по украинскому языку, на него внимания особого не обращали. Говорили на одесском. История Украины – такого предмета не было, а Сковорода, Коцюбинский, Леся Украинка, Тарас Шевченко и даже Павло Григорьевич Тычина – все как-то в пол уха. Про язык шутили: «одичавший русский». И демонстрировали карикатурным переложением пушкинских «Паду ли я стрелой пронзенный»: «Чы гэпнусь я дручком пропэртый…» И нам за это ничего не было.
В голову не приходило, что мы живем на Украине. Одесса – наша Родина, свободная и чертовски обаятельная Одесса, а потом уже СССР и дальше планета землян. А Украина была нашим воздухом, напоенным запахами свежевыловленных бычков и мидий, ковыльной степи, степных помидоров и певучим сельским говором Привоза.
Мы родились и жили в СССР, где партия выводила особую человеческую породу «советского человека» – без бога, без буржуазного индивидуализма, без страсти к наживе и болота мещанства. Все мы, русские, евреи, украинцы, молдаване, болгары, цыгане, должны были стать новой исторической общностью – советским народом, где все люди братья. И сестры. А что говорят по-русски, так это же само собой. Мы же всех объединяем, оно и понятно!
А тройка – уже по поведению. Только за что? Да, ударил учительницу по голове ботинком. А зачем человека за руку дергать, когда он стоит вниз головой на руках на перилах в пролете третьего этажа? Если б не на училку упал, так внизу пятном кровавым. Я даже гордился этой тройкой, хотя именно она и закрыла дорогу туда, куда так хотелось.
…Помню в моих руках страшные тексты. Смятые, затертые страницы дневника недавно реабилитированного политзаключенного, друга моего отца, написанные им «там», урывками и тайком. На нашей маленькой даче в полдомика на 13-й станции Большого фонтана передо мной сидел изрезанный не то морщинами, не то шрамами сломленный человек и вяло рассказывал немыслимое. В 37-м он занимал высокий пост председателя Баскомфлота, профсоюза моряков. Его вызвали в Москву и взяли прямо в кабинете Берии, после дружеских объятий красного наркома. И для начала тут же профессионально избили. Ни за что.
Представить, как власть может любого человека превратить в корчащееся от боли животное, было невыносимо. Только спросил его:
– Вы не хотите отомстить своим мучителям?
Он посмотрел на меня печальными, мертвыми глазами:
– Отомстить? Молодой человек, у меня сил осталось только дышать.
Тогда я не понял его, хотя уже был ХХ съезд КПСС, разоблачен культ личности Сталина.
– Значит, вы им простили?
– Кому? Я знал: раз посадили, значит, партии так нужно. А где умирать за дело партии, в бою или в лагере… Значит, я был нужен ей там.
Тогда мы еще не знали многого. Книги и песни, фильмы и живопись учили любви к Родине. От гражданской войны осталась героика, а стройки коммунизма звали на подвиги. Отец, который привел меня к своему другу, молчал. А когда его, старшего механика Черноморского пароходства, всю жизнь утюжившего моря и океаны, партия вдруг бросит на подъем сельского хозяйства в Молдавию, он гордо отправится ремонтировать комбайны. Конечно, это не лагерь и не допросы с пристрастием, а директор машино-тракторной станции в Молдавии, в Дубоссарах. И орден Трудового Красного знамени на красной подушечке.
Придет время, и я по призыву комсомола в степи казахские на Всесоюзную стройку рвану с флота. Добровольно! С энтузиазмом!
– Идиот, – усмехнутся бывалые, глядя вслед сходящему по трапу товарищу.
– Романтик, – напишут в газетах.
Только добровольцы 41-го меня поймут. Правда, они не вернутся из боя. А я вернусь, и даже буду неожиданно вознагражден…
ХХ съезд обнулял кошмары прошлого, возвращал репрессированных и обещал: теперь все будет иначе. Знать бы будущее… А с другой стороны, что бы это меняло? Знать, что власть, обманувшая раз, обманет еще раз и еще раз? И как бы ты с этим знанием жил, строитель коммунизма? Нет, лучше не знать! Юность должна быть вдохновенной…
А жизнь между тем уже вносила кое-какие поправки. В том году объединили мужские и женские школы, и эта внезапная близость, случайные прикосновения, лукавые взгляды, девичьи запахи слегка наехали на жажду подвига. Стало неловко ходить по улицам, взгляд сам собой забегал под юбки длинноногим девчонкам. Субботние муки по вечерам: книга или танцы? Битва духа с плотью.
Спас отец. Догадывался ли он, не знаю. Но это отец отвел меня к своему товарищу, директору детской спортивной школы – ДСШ №1 на спортивную гимнастику. И этот простой шаг оказался судьбоносным для всей будущей жизни. Тогда спорт не только отвлек от игры гормонов, но и пустил в рост мышцы, подарил ощущение полета. Непередаваемо это чувство превосходства над толстым, неуклюжим человечеством. Вечерами в Воронцовском переулке, что возле Дюка и Потемкинской лестницы, разгонялся на турнике в большие обороты и сальто прогнувшись. На какое-то время мысли о человечестве вытеснит большой спорт.
Гимнастический зал уже в Москве, во взрослой жизни останется для меня родным домом, поможет справляться с сомнениями, которых только прибавлялось, а потяжелевшее тело и в 60 вынесет меня на двойное сальто, и в 70, привычно вложив ладони в кольца, поднимусь из виса в упор и в угол, и выжму стойку, не дрогнув.

От меня слева Федотов, справа Воскобойников, Кинолик,