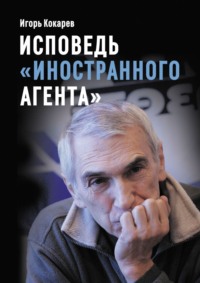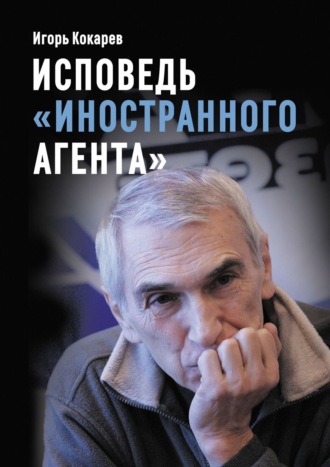
Полная версия
Исповедь «иностранного агента». Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет
Статистику кинопроката мы изучали по тоненькой, в серо-синей обложке брошюрке «для служебного пользования» – ежемесячному бюллетеню Госкино. В ней был спрятана почти государственная тайна: сборы от десятка американских фильмов из года в год давали больше, чем все 150 советских фильмов. Почему? Только ли развлекаловкой было западное кино для советского человека?
Вроде об этом же говорил и бешеный успех наших фильмов легкого жанра – «Человека-амфибии» в 1962 году – 67 миллионов зрителей, в 1969 году у «Бриллиантовой руки» 77 миллионов, в 1971 году 65 миллионов у «Джентльменов удачи». Но более детальный анализ обнаруживал и в этих комедиях то, что обычно нравится советскому человеку в анекдотах – высмеивание отдельных пороков.
Тянулось наше внимание, конечно, к кино оттепели, к признанных шедеврами «Балладе о солдате», «Летят журавли», «Чистое небо», «Судьба человека», «Отец солдата». «Баллада о солдате», первый плод оттепели, собрала гигантские по тем временам 30 миллионов зрителей. Отметили ее наградами и кинокритики, в основном зарубежные. И вообще, благодаря этим никак не развлекательным фильмам, кинопосещаемость, которая составляла в 1953 года около 1,5 млрд. зрителей, выросла вдвое. Вот что значило попасть в резонанс общественных настроений!
Один фильм, уже после оттепели, глубоко потряс меня самого. Не только потому что в 1973 году он соберет аж 66 миллионов зрителей. Впрочем, об этом фильме отдельный разговор. «Зори здесь тихие» выйдут на экраны когда будет защищена диссертация «О дифференциации массовой киноаудитории» уже не во ВГИКе, а в Академии общественных наук. Но лебедевский семинар останется со мной еще на долгие годы, как запоздалая любовь и вдохновение.
Сначала был журнал «Юность» с повестью Бориса Васильева. Дело было еще летом 1969-го года. Листая, как обычно, его страницы, я споткнулся на этой повести. И, уже не отрывая глаз от страниц, ушел с чтением на балкон. Потом нашел бутылку коньяка и налил уже дрожащими руками.

«А зори здесь тихие»
Весь в слезах и восторге дочитал повесть и той же ночью сел писать письмо в журнал. Надо было выговориться. Оказывается адреналин, вброшенный в душу повестью, мог быть еще вызван высокими патриотическими чувствами. И вот что произошло. Письмо попало к автору, и Васильев ответил сразу. Он позвонил и пригласил к себе в гости.
Усадил за стол, расспросил кто и откуда, допытывался, что и почему в повести меня тронуло и поразило. Потом мы заговорили об экранизации. Я предлагал Желакявичуса, снявшего потрясающий «Никто не хотел умирать» о литовских «лесных братьях», признанный читателями «Советского экрана» лучшим фильмом 1966 года.
И действительно скоро фильм был снят. Станислав Ростоцкий сделал шедевр, не уступающий первоисточнику. Сам фронтовик, он сумел…
И снова успех. На нашем семинаре мы со студентами рассуждали о том, как патриотические чувства, извлеченные этим фильмом из исторической памяти народа, побеждают сегодняшние скептические настроения. Я же просто растворился в огромном всеохватном чувстве отчаянного самопожертвования, которое передала через экран Ольга Остроумова.
А сама Ольга Остроумова неожиданно войдет в мою, нашу с Наташей жизнь, вполне наяву. Это Миша Жванецкий приведет меня на спектакль одессита, режиссера Левитина. Познакомит. А Левитин, тоже, кстати, Миша, замедлится, чему-то усмехнулся и пояснит:
– Как же я вас тогда ненавидел в школе! Ольга Андреевна все в пример ставила чьи-то школьные сочинения. Бесило, что они были еще и в стихах…
Мы не могли не сблизиться. Тут и выяснилось, что Миша Левитин муж Ольги Остроумовой. Так мы все, как принято говорить, подружились. Ольга, истинно русская красавица, выросла в семье священника и, не впав в христианство, взяла из него духовность, которой следовала в жизни и в искусстве. Ольга обладала присущим редким красавицам магнетизмом непреодолимого обаяния. В ней ощущалось то, что мне особенно дорого в людях, нравственное начало. Она носила его как немодное, но сшитое по ее фигуре платье. Я боготворил ее.
Премьеру спектакля по миниатюрам Жванецкого ставил Левитин. Помню, играли в нетопленом зале (трубы лопнули) при морозе около 30 градусов. Люди сидели в шубах, никто не раздевался, а на сцене актеры в купальниках изображали знойное лето в Одессе. Они бодро шутили: «Ох, жара!». Изо рта у них валил пар.
Я обожал его репетиции, когда затаив дыхание, наблюдаешь, как упорно добивается он от актеров нужной интонации, иногда в одной короткой реплике. Сто раз истошно кричал из зала:
– Стоп! Повторить! – и выскакивал на сцену и играл сам. Боже, как он показывал… Тайна рождения спектакля – в тех репетициях. По мне, так они важней спектакля.
Человек сцены, живущий театром, его историей, его актерами и их интригами, своими замыслами, он старательно будет и меня втягивать в свой мир:
– Мне нужен хороший директор. С твоим прошлым опытом и нынешними связями мы много добьемся, я тебя уверяю.
Слава богу, я не согласился…

Михаил Левитин. Вот с таким выражением он слушал мои наивные рассуждения о его театре.
Но своих студентов я водил на его спектакли довольно регулярно на свободные места или как придется.
– Это гости Михаила Захаровича! – говорил я кассиру, показывая на робкую, но не малую группку студентов и всегда получал контрамарки. Студентам это нравилось, а я, к своему удивлению, все больше ловил кайф от каждой встречи с ними. Кажется, мне нравилось преподавать!
Тогда как раз репетировали Хармса. «Хармс, Чармс, Шардам или школа клоунов» стала классикой его театра. Его играли много лет поколения актеров. А первой исполнительницей была Любовь Полищук. И Рома Карцев. На репетициях Миша так орал на старающуюся изо всех сил Любу, добиваясь того, что видел только он, что я не выдержал:
– Девочка играет просто изумительно. Что ты еще хочешь?
– Если на них не орать, они вообще слова забудут.
Дело было в его кабинете после репетиции. Как раз на этих словах вошла Люба, которую он сам просто обожал.
– Любка, ты слышишь, он тебя защищает!
– Кто?
Так мы познакомились и дружили много лет. Она трудилась в театре, пахала, как она выражалась. И никогда не корчила из себя звезду. Как-то попросила меня подготовить ее к экзаменам в ГИТИС. Оказывается, у нее даже не было театрального образования. Но вот поступила, честно отучилась и получила диплом. Чего он прибавил к ее таланту, я не заметил.
Она была великолепным другом и отважно искренним человеком. Если она тебя приближала, то это навсегда, не под настроение, а на жизнь. Мы могли не видеться годами, а встречались, будто только вчера расстались. Без нее, без репетиций Миши, без его Хармса, которого я смотрел бессчетное число раз, эти годы были бы намного скудней.
Еще много лет уже на собственных «Жигулях» буду приезжать на улицу Эйзенштейна, во ВГИК и раз в неделю озадачивать очередное поколение киноведов и режиссеров вопросами не о том, что хотел сказать автор, а о том, что захотел понять зритель. Эту область знания философы и один проницательный кинокритик Майя Туровская называли внеэстетическим бытованием искусства в обществе.
С годами подмерзала хрущевская оттепель, из кино уходила наивность и робкая искренность, на их место приходили редкие, пробивавшиеся сквозь цензуру важные для пробуждения общественного беспокойства социально острые фильмы. Мы искали в таких фильмах их смысл и пытались обнаружить его след в сознании зрителя. Лечат ли больного подобные инъекции?
Уже ведь сказал Жванецкий: «В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места», и ему за это ничего не было. Видят ли зрители, как сквозь тонкую изящную ткань искусства просвечивает дряблое тело советской реальности?
В 1977 году вышел на экраны шедевр Ларисы Шепитько – «Восхождение» по военной повести Василя Быкова. Эффект, произведенный главным героем на мое сознание был таким же потрясением, как от Ольги Остроумовой в фильме Ростоцкого. «Зори здесь тихие». Снова патриотизм, но очищенный, почти религиозный. Я не мог молчать. Не составило труда найти Шепитько. Набрав телефон, сразу обрушил на незнакомого человека каскад эмоций. Она остановила меня:
– Подождите, я знаю вас. Вы на киноведческом? Давайте поговорим не по телефону. Для меня это важно.
Так мы встретились. Не во ВГИКе, у нас с Наташей. Элем Климов и Лариса Шепитько пришли с бутылкой и скромно сидели рядышком на диване за журнальным столиком уставленном бокалами, слушая мои страстные и наивные излияния.
– Не высока ли планка? – спросил я ее тогда. – В человеческих ли силах пройти этот путь Иисуса?
Лариса ответила, не задумываясь:
– В ваших? Не знаю. В моих, да.
Элем молчал. А я, глядя на эту необычную женщину с твердыми чертами красивого лица, набирался мужества. Так и должно действовать настоящее искусство, утверждающее идеал. На всех ли, вот вопрос. И если нет, то почему. Но это уже вопрос к моим студентам.
Лариса жаловалась на цензоров, грозящих запретить фильм как «религиозную притчу с мистическим оттенком»:
– Моральные уроды, им даже патриотизм страшен!
Я тихо пискнул:
– Это же гимн силе духа! И эта сверхчеловеческая стойкости во имя родины!
Элем сказал:
– Показать бы картину кому-то авторитетному, кто мог бы заступиться.
Наташа, не видевшая фильма, вдруг сказала:
– А если ее показать секретарю ЦК Белоруссии Машерову? Он же сам бывший партизан!
Элем знал, конечно, чья она дочь:
– Да, это, пожалуй, стоит. Но как дотянуться до кандидата в члены Политбюро? Есть идеи?
Идея была, и просмотр состоялся. Потом Элем рассказывал, как Машеров сказал, вытирая слезы после фильма:
– Откуда эта девочка, которая, конечно же, ничего такого не пережила, знает обо всём этом, как она могла…
Картин социальных, глубоких, осмысливающих несовершенство социалистической реальности, всё прибавлялось и прибавлялось. «Гараж» Эльдара Рязанова, «Плюмбум» и «Остановился поезд» Вадима Абдрашитова. Да и ядовитая комедия «Родня» о советской семье трех поколений, снятой Никитой Михалковым в 1981 году, и «Полёты во сне и наяву» Балаяна о кризисе поколений сорокалетних – все они были поводом для исследования не тенденций в искусстве кино, а более важного вопроса: могут ли эти послания реально влиять на сознание миллионов, настраивать его на перемены? Так и хотелось сказать «да». Но выходили эти фильмы малыми тиражами, цензура делала свое подлое дело, тормозя развитие общественного сознания.
В 80-х начнется в прессе унылая дискуссия о «серых» фильма, кинокритики будут опять сетовать на непрофессионализм режиссеров, досадовать на неграмотность зрителя, доказывать, что именно из-за этой неграмотности падает посещаемость советских фильмов. Чтобы ее поднять, надо ввести эстетику кино в школах. Наивная вера.
Конечно, кино в школу давно пора. Поскольку влияние фильма уже обгоняло влияние книги, школьникам пора знать и иметь под рукой, как книгу на полке, классику отечественного и мирового кино. Кто ж спорит? Её ценность соизмерима с ценностью литературы. Для этого должен быть утвержден и обеспечен просмотрами список хотя бы полусотни шедевров. Отделить зрелище от искусства таким образом можно, но тогда в шедевры попадут не только фильмы итальянского реализма, но и выше упомянутые советские фильмы отнюдь не по канонам социалистического реализма. Попадут ли?
С первых лет преподавания к занятиям готовился, как струну натягивал. Чтобы не сводили глаз с пущенной стрелы, с мысли, несущейся к черте, за которой можно было и загреметь. Если струна не натягивалась, и лететь не получалось, пропускал занятие. Почасовику такое сходило с рук. Зато был драйв, взаимное доверие и напряженная совместная работа. Неизвестно, кто больше получал от этой забавы, я или они.
Такой вид обучения позже назовут интерактивным, и он придет к нам в виде тренингов в 90-х годах. Рискованная, между прочим, была игра: вроде бы нет у нас запретных тем, но есть где-то рамки дозволенного, которые никто не видит. Но чувствуют. Надо было догадаться, где остановиться. Я же и подливал масла в огонь: найди черту сам! Нет, мы не диссиденты. Но перешагнешь – им и станешь. И будешь наказан, уволен, выброшен, выслан, посажен, никому не нужен. Не дойдешь – обидно, художник! Не договорил, не довыразился, зря талант просадил.
Годы пройдут, и уже кандидат наук, кое-что понявший в этой жизни, я буду грустно говорить с ними об их профессиональной доле:
– Тащить вам, ребята, свою бурлацкую лямку, вытягивать тяжелую, забитую доверху лозунгами и фобиями баржу общественного сознания к истокам общечеловеческих ценностей всю свою творческую жизнь. И не будет этому конца…
Искренность и осторожность – два полюса, между которыми метались многие в мире изношенных ценностей «зрелого социализма». Мы со студентами, как мне по крайней мере казалось, ничего не боялись. Разве что только я немножко… Но как же хороши эти паузы между неожиданным вопросом и искренним ответом без всякой обязательной в наше время самоцензуры! Я доверял им, они верили мне…
Я уже числился старшим научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР, когда ректорат предложил мне году в 76-м еще и режиссерский факультет с тем же семинаром. Теперь я уже мог вполне грамотно разбирать социально острое независимое кино не только отечественное, но и США, обсуждать процессы в американском обществе – в ИСКАНе набирался новых знаний.
Конечно, я не мог конкурировать с Володей Утиловым, который давно и фундаментально читал курс истории зарубежного кино. Но наш семинар был, наверное, интересней, так как мы рассматривали лишь отдельные фильмы, но в общественно-политическом контексте. А контекст американской либеральной революции гражданских прав был в шестидесятые как горячая сковорода: плюнешь, зашипит.
В Госфильмофонде в Белых столбах (специально ездили на электричке) смотрели шедевры мирового кино добытые зав иностранным отделом Госфильмофонда Володей Дмитриевым самыми таинственными способами. Как бы то ни было, нам повезло. Благодаря Володе мы увидели такую классику, как «Выпускник», «Алиса, которая здесь больше не живет», «Легкий ездок», «Возвращение домой», «Грязные улицы», «Смеющийся полицейский», «Жажда смерти», «Роки», «Рэмбо». По сути через замочную скважину кинематографа заглядывали в американскую жизнь в ее драматические и переломные моменты.
Потом, в Перестройку я вернусь во ВГИК уже на экономический факультет после выхода моей книги «Кино как бизнес», написанной в годы реформ. Но далекие годы на лебедевском семинаре «Кино и зритель» останутся для меня трогательным воспоминанием, школой самообразования, расширявшей горизонты дозволенного партийной идеологией. Мелькнет и шальная мысль: если бы Горбачев пришел сразу за Хрущевым, на той волне перемен, поднятой великим искусством оттепели, мы сегодня не кусали бы локти…
С годами не потеряется связь с бывшими студентами – с режиссером Георгием Шенгелая, фильм которого «Мусорщик» с моей легкой руки получит два главных приза на Венецианском кино-ТВ-фестивале в 2002 году, с Витой Рамм, которая станет известным медийным кинокритиком, со Славой Шмыровым, кинокритиком, выдающимся деятелем отечественного кино, организатором кинофестивалей, редактором первого профессионального журнала постсоветской киноиндустрии «Кинопроцесс», хранителем нашей кинопамяти, собирателем уникальных историй об уходящих звездах отечественного кино, мы будем дружески общаться, кажется, всю жизнь.
Киновед Сергей Лазарук после стажировки в киношколе в Лос-Анджелесе по моей рекомендации вступит в Союз кинематографистов, быстро взлетит по карьерной лестнице и в постсоветской России станет первым заместителем председателя Госкино, директором департамента государственной поддержки кинематографии Министерства культуры РФ.
Другой киновед, Николай Хренов, подхватит тему и станет автором серьезных монографий о психологии массовой зрительской аудитории.
А Сережа Кудрявцев, а Игорь Аркадьев? Имена этих тихих и скромных архивариусов мирового и отечественного кинематографа, энциклопедистов, знают все, кто интересуется кино. И я рад, что они помнят наши семинары.
Спустя почти полвека придет в далекий Лос-Анджелес весточка:
«Да, Игорь Евгеньевич, я – тот самый Аркадьев. Горько слышать формулировку „выброшен за ненадобностью“, и конечно, Вам виднее, это же Ваши ощущения, однако даже если я – единственный Ваш ученик, преисполненный благодарности к Вам, то у горечи Вашей есть и смягчающие оттенки. Потому что Вы (в том числе – и Вы) терпеливо лепили из меня, провинциального мальчика – несмышленыша, существо, способное отличать черное от белого и отвечать за собственные слова и деяния, и Вы творили это с человеческой деликатностью и иcключительно редким преподавательским мастерством. Еще раз – спасибо Вам».
То, что такие слова сказаны не на панихиде, дорогого стоит.
Глава 2. Под сенью чужой славы
– Ты, парень, выиграл счастливый билет! – сказала явно раздосадованная браком дочери властная наташина мать.
По большому счету ВГИК, Наташа, Москва… она была права. Это был билет в параллельный мир, что правда, то правда. Только я не играл в лотерею. Видимо, в жизни люди как-то все же иногда находят друг друга. Так я нашел свою школьную учительницу, научившую понимать великую литературу, нашел меня бродячий одесский философ Гера, открывший школьнику космические сферы абстрактного мышления, я нашел Вадима Чурбанова, буквально вырвавшего меня из флота, и теперь меня, кажется, нашла Наташа.
Сегодняшние впечатления будут посильней моих первых заграничных. Там, в тех рейсах по чужим портам и странам, мы как по музеям ходили. Но всегда возвращались домой. А сейчас, значит, здесь в Москве, на улице Готвальда, на Миусах, мой дом? Я вошел сюда с фибровым чемоданчиком и в модных когда-то пластиковых туфлях, купленных в Японии. И уйду с таким же через тридцать лет… Огромная, напряженная и счастливая жизнь, оборвется вместе с концом Советского Союза…

Наташа. Она так и не сменила фамилию…
Почему Наташа, красавица и умница, выбрала залетную птицу, человека не ее круга, увлеченного тем, что здесь давно никого не трогало? Кого волнуют сегодня комсомольские стройки? Но она выбрала. Слово было за ней. Я бы не осмелился. Это Андрон Кончаловский мог позвонить по международному в Осло и сказать кинозвезде Лив Ульман:
– Я русский режиссер, хочу с вами встретиться.
Наташа не похожа на Андрона, но в ней та же смелость:
– Я дочь Хренникова и могу позволить себе брак по любви.
Так сказала она своей подружке, дочери министра лесной промышленности. Как будто кому-то бросала вызов.
Однажды, когда мы были одни дома, она взяла меня за руку, усадила в гостиной, поставила пластинку:
– Слушай. Это «Как соловей о розе». Папина песня любви.
Я слушал сладчайшую мелодию: «Звезда моя, краса моя, ты лучшая из женщин…» и каким-то шестым чувством понимал, что Наташа говорит музыкой отца о любви. Ей, далекой от сентиментальности, так, наверное, было легче выразить что-то важное. Мне кажется, именно этот момент окончательно соединил нас на много лет. Был и знак свыше: родились мы с ней в один год, в один месяц и с разницей в один день…
Аспирантура дарила три года для смены кожи – получения образования, обретения профессии и избавления от комплексов провинциала. Четыре фильма в день, стопка книг и дневник для складирования впечатлений, которые еще переваривать и переваривать. Вот уже и отстукиваю на пишущей машинке первую свою статью в студенческий сборник ВГИКа.
Удивился, когда этой, уже напечатанной статьёй по социологии, заинтересуется тесть. Взял, полистал, вроде особо не вчитываясь, и сказал, возвращая:
– Не пиши умно, пиши просто, как чувствуешь. Если не дурак, получится.
Сурово. И про себя подумал: что он понимает в социологии? Со временем дошло, что социология тут ни при чем. ТНХ знал нечто большее. Он владел секретами творчества.
Полутемный коридор с комнатами с двух сторон, справа сначала кухня, потом спальня родителей, дальше наташина, все окна во двор. Слева большая светлая гостиная с длинным столом, в конце коридора, напротив Наташи – тесный кабинет, едва вмещающий диван, стол, шкаф и рояль. И окна на улицу, на райком партии, какой-то секретный институт с охранником и дворец пионеров в глубине небольшого сквера.
Коридор без света, вдоль гостиной завален по грудь книгами, нотами, журналами, газетами, на которые наброшено что-то серое, чтоб не пылилось.
В этом старом доме композиторов на Миусах я увижу многих бессмертных, прикоснусь к субстанции гениальности с ее человеческой, бытовой стороны. Что неправильные аккорды Прокофьева – это гениальное новаторство, или что Шостакович своей музыкой выразил время, я еще мог усвоить. Но как с одного прослушивания запомнить наизусть целую симфонию? Невероятно. А вот этот тихий мальчик напротив меня за столом, Павлик Коган, он может. Инопланетянин?
Осваиваться в этом мире помогал Аркадий Ильич Островский. Чувствуя мое смущение, он говорил, приобняв по-дружески:
– Да не робей ты, моряк! Мы же не министры какие-то! Мы лабухи, нормальные лабухи, понимаешь?
Его знаменитая песня «Пусть всегда будет солнце» звенела над Москвой еще на том далеком Московском Форуме молодежи, а он, когда-то начинавший в оркестре Утесова, оставался своим в доску, почти одесситом.
На концертах в Колонном зале Дома Союзов Иосиф Кобзон самозабвенно исполнял его героическую песню о мальчишках, о их подвигах во имя Родины, а ее автор подмигивал мне:
– Да ладно, это все ерунда, подумаешь, песенка. Обычная халтура!
Кажется, он первым намекнул мне на то, что и халтурить можно гениально.
В день свадьбы мы случайно встретились в Елисеевском гастрономе на улице Горького. Аркадий Ильич подошел, показал, какую ТНХ любит ветчину и приобнял, благословляя на новую жизнь:
– Не дрейфь, моряк, все будет хорошо!
Он ушел на моей памяти первым. Через несколько быстрых лет скончается Аркадий Ильич в сочинской больнице. Он войдет в море веселым и беззаботным, но там случится приступ язвы с обильным кровотечением, и врачи уже не смогут его спасти. Остался его приемный сын, наш с Наташей друг добрый и деликатный Миша Островский со своей Раей.
Почти всегда за Большим Столом тихо, как мышка, сидела Лина Ивановна, худенькая, с тонкими чертами лица, многострадальная вдова композитора Прокофьева. Она, вернувшая в Россию своего знаменитого мужа и получившая десять лет лагерей после того, как он ее бросил, никогда, ни словом, ни намеком не вспоминала о своем прошлом. Для неё ТНХ выхлопотал пенсию и квартиру, где она и жила с двумя сыновьями Прокофьева этажом ниже. Прокофьев был кумиром ТНХ, и лично заботиться о Лине Ивановне он считал своим долгом.
Меня же она поразила тем, что однажды, поставив рядом два стула спинками друг к другу, оперлась на них прямыми руками и подняла стройные ножки в прямой угол:
– А ты так сможешь, молодой человек?
Ей 70 и лагеря за спиной, мне едва тридцать и я гимнаст. Ей мой угол нравится. Ей вообще нравятся молодые люди. И это помогает мне освоиться.
Легко и интересно было, когда за столом оказывался Леонид Борисович Коган. Маленький, слегка сутулый, при улыбке зубы впереди губ, улыбается первым. Глаза смеются, ласковые. Со скрипкой, женой и двумя прелестными детьми Ниной и Павликом никогда не расстается, они приходят на вечерний чай все вместе. В черном потертом футляре скрипка. Гварнери, однако. Помню его восторженные рассказы про то, как классно самому за рулем катить через всю Европу в Рим на три дня ради одного концерта. Что-то знакомое откликалось и в моей памяти.
Да, его выпускали. И в Рим, и в Париж, и в Бостон, Чикаго, Мадрид, Токио. Гражданин мира. Он видел мир, как свой дом и очень дорожил этой привилегией. И я интуитивно понимал, что от советской власти ему больше ничего не нужно. И он всю жизнь боялся, что его кто-то как-то почему-то может лишить этой свободы, и потому вел себя на людях предельно предупредительно.
А встречи Нового Года у Коганов на даче в Архангельском? Снег хрустит под шинами, въезжаем во двор дачи часам к одиннадцати. Длинный, от стены до стены стол, густо заставленный салатами, ветчиной, икрой, прочими вкусностями. Обязательный сюрприз – новогодняя страшилка из уст друга семьи замминистра юстиции СССР Николая Александровича Осетрова. Он с удовольствием рассказывал о страшных преступлениях так, что жевать за столом переставали.
Например, как один из братьев Запашных, знаменитых дрессировщиков советского цирка, зарезал свою красавицу жену, долго членил ее на части, сложил их в чемоданы, спрятал под кровать и, рыдая, позвонил в милицию…