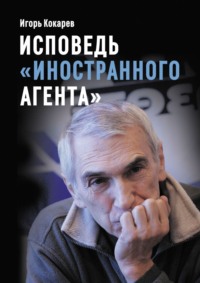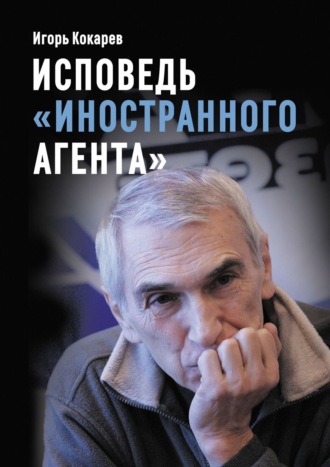
Полная версия
Исповедь «иностранного агента». Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет
– Когда ты угомонишься, Кокарев?
Хорошо, выговора не схлопотал за свои инициативы, но в партию меня тогда так и не приняли. Не той крови…
Годы спустя мелькнет Петр в Москве, в высшей партийной школе. И исчезнет. Я думаю, по спецзаданию партии где-нибудь в Латинской Америке. Или в Африке.
Так же бесцеремонно, как выслали из страны строптивого поэта Лёню Мака, секретарь обкома КПСС Синица, проходя мимо «Алых парусов» и услышав рок-н-ролл, запретил это безобразие лично. Осталось от парусов одно название.
– Слушай, ты знаешь, что Снигирев телегу на тебя накатал Бельтюкову? – спросила меня вскоре после этого Люба, пышнотелая наша смешливая секретарша. Она недавно родила, и ее соски сочились мокрыми пятнами через платье.
Я отвел глаза:
– За что, спрашивается?
– А за то, что ты ни разу не был в первичных организациях, ни на одном заводе.
– Так они у меня все здесь, в Горкоме почти каждый вечер! Что мне делать на заводе?
– Ну, смотри. Как знаешь. – И она все-таки прижалась ко мне своей плотной, выпирающей грудью. А кляузу липкого, как Урия Гип, Снигирева, она куда-то затеряла, не дошла телега до Бельтюкова.
Я чувствовал, что меня как-то прикрывал и пенсионер-чекист из комиссии старых большевиков в горкоме партии. После того бюро по Дворцу студентов, он иногда тормозил меня в обкомовской столовой и, внимательно глядя из-под нависших седых бровей, спрашивал:
– Как, брат, борьба с мировым злом продолжается?
Михаил Карлович Волховышский. Кто его знает, что скрывал он в своем прошлом, но ко мне Волховышский присматривался, видимо, чтобы убедиться, что они делали все правильно, и мы продолжим их дело. Ага.
В одесском горкоме приоткрылись мне тайные пружины советской партийной власти. Банкеты на весь рабочий день в рыбацких совхозах Отрады и Люсдорфа в так называемых инспекционных поездках милицейского начальства, спецпропуска, служебные машины, торжественная тишина роскошного буфета в здании Обкома, тринадцатая зарплата в отдельном конверте и бесплатная путевка в Крым в санаторий Четвертого управления, и эта тоненькая волшебная книжечка – телефонный справочник для служебного пользования с именами и отчествами всех должностных лиц города. Эти имена известны только нам, и только мы можем решать важные вопросы телефонным звонком. Это и есть так называемое телефонное право, применяемое вместо закона. И все бумаги на моем столе секретны, для служебного пользования. И осторожность, как бы чего не ляпнуть, неписаные правила. Какие? Почему? Есть, что скрывать?
А заседания бюро горкома партии, больше похожие на инквизицию? Сидят по обе стороны длинного стола члены бюро, только что не в мантиях, судят чем-то провинившихся. И теряли сознание здоровенные мужики, лишенные партбилетов. Знали дальнейшее…
Тайна власти упорно ускользает от меня. Не понять, как слуги народа становятся его хозяевами? И почему ими становятся именно посредственности с дурным характером? Или на людей так действует сама власть? О, эта сладкая, полная скрытых привилегий и открытого раболепия жизнь египетских жрецов, надувающих щёки! Стал присматриваться к самому себе. Вдруг заметил, что мне подсознательно больше нравятся люди, которые с уважением смотрят мне в рот, и раздражают те, у кого свое мнение. Это происходит сплошь и рядом, на автомате, если не сдерживаешь себя окриком изнутри.
Это случилось, когда я вернулся из командировки по обмену опытом из Днепропетровска. Прямо с поезда пошел не к себе, а решил подняться в Горком партии, располагавшемся на втором этаже того же обкомовского здания возле железнодорожного вокзала, где на первом были мы, комсомолята. В голове бурлили новые революционные идеи, которые не терпелось предложить партийному руководству города.
Итак, в просторный кабинет первого секретаря Горкома партии вошел молодой человек с фибровым спортивным чемоданчиком, в трикотажных рейтузах-трениках с пузырями на коленках и сияющей физиономией. Так ходили, наверное, ходоки к Ленину.
И вдруг издалека, где виднелся необъятный стола с телефонами, раздался визгливый голос:
– Ты кто? Ты куда пришел в таком виде, сопляк? Это Горком партии, а не Привоз. А ну, вон отсюда!
Несколько секунд я стоял, не шелохнувшись, пока доходили хлесткие, как кнут, слова, горячая краска заливала лицо и шею. Я не видел его лица, его глаз. Так и ушёл, пятясь, тихо притворив за собой тяжёлую дверь, не смея взглянуть на секретаршу. Жгучий стыд и одна единственная мысль: все кончено. Я сюда больше ни ногой. Какой Днепропетровск? Через день я подал заявление с просьбой направить меня в пароходство на работу по специальности.
Пройдет целая вечность, жизнь своими жерновами перемелет зерна веры в муку сомнений, пока горький вывод большого русского писателя Виктора Астафьева не поставит в этих сомнениях точку: «Власть всегда бессердечна, всегда предательски постыдна, всегда безнравственна…»
Прошла молодость, а с ней и краткие шестидесятые. Нет уже кафе на Дерибасовской угол Екатерининской с чудным названием «Алые паруса». Нет и Горкома в той каменной громаде у железнодорожного вокзала. И двор, где родился, кажется маленьким, едва вмещающим воспоминания… Но тянет туда занозистая память, живет в далеком уголке души свободный дух оттепельных скоротечных лет.
Брожу по Одессе, ласкаюсь к камням…Да здесь я, да здесь я! – шепчу я ветвям.Бреду, спотыкаясь о мягкий асфальт…Мой голос не тенор, не бас и не альт,Мой голос… Пусть стены услышат мольбу! —Я жить без тебя не могу, не могу!Глава 2. Прости, батя
В одной руке диплом инженера-механика судовых силовых установок, в другой – заявление об уходе:
«Прошу направить на работу по специальности.» Какая смелость, однако. Надеюсь, мотористом я особой опасности для безопасности судна не представляю.
Бельтюков подписал заявление, кажется, тоже с облегчением. На его круглом лице ничего не отразилось. Так расстаются с ненужными вещами. Потом я сдал их волшебную красную корочку – удостоверение инструктора Горкома комсомола, вспомнив напоследок, как оно работало.
Дело было в Москве, на Зубовской, где сестра приютила меня на несколько дней командировки. Из этого ветхого деревянного строения забрала меня милиция за избиение ее ревнивого мужа. Не бил я его, конечно. Просто когда увидел замахнувшуюся на сестру руку, поднял его за воротник и выбросил в закрытую дверь. Дверь выпала вместе с ним на улицу. Тщедушный орал, рвал на себе одежду и звал милицию.
У меня забрали паспорт, уволокли в отделение, сунули в клетку, как бродягу без прописки. Очнувшись, я на всякий случай показал дежурному через решетку мое удостоверение Одесского Горкома. Дежурный уставился на красные корочки, заморгал всеми глазами:
– Так что ж вы сразу не сказали, Игорь Евгеньевич?
И все сразу изменилось. Меня с извинениями доставили обратно к сестре, а в камеру затолкали его, психа трусливого. Так ему и надо, думал я, но сестра задала мне еще ту трепку. Тут волшебный мой документ не помог…
Ладно, обойдусь как-нибудь своими силами. Главное, я кое-что узнал про соблазны власти, чего не ведают другие. А зря, могли бы и укоротить. Если б знали.
На пассажирском лайнере «Литва» буду ишачить мотористом, зарабатывать стаж для рабочего диплома механика. В пропахшем горячим маслом машинном отделении время меряется не днями и ночами, а вахтами по четыре через восемь. А недосягаемая соотечественникам и всегда почему-то солнечная и теплая заграница открывается урывками и издалека, когда мы носимся в пятерке таких же охотников за шмотками по дешевым магазинам специально для советских моряков. На остальное ни времени, ни разрешения. Известны и места на борту, где прятать от таможни контрабанду – модные плавки, отрезы, шариковые ручки, блузки на продажу. Если свой не заложит, за короткий двухнедельный рейс можно годовую зарплату перекрыть. Моряки загранплавания были вполне обеспеченными людьми в Одессе.
«Литва» ходила короткими рейсами по портам Средиземного моря: ночью – переход, днем – стоянка. Стамбул с запахами жареной рыбы на причалах, Латакия с солнечными длинными пляжами, Хайфа с ее висячими садами, шумная Александрия с египетской экзотикой, золотой Бейрут с уличными базарами, Фамагуста с легендарным замком Отелло, древние Афины, зеленоводный Дубровник с крепостной стеной и прозрачными бухтами – что успевает увидеть человек, носящийся с высунутым языком по давно известным адресам? Но все это безумно интересно для двадцатитрехлетнего с замыленными глазами парня. Заграница, оказывается, не так уж и загнивает? Или я чего-то не вижу?
«Литва» германской постройки, кстати, тоже заграница: немецкая мебель салонов, полумрак баров с иностранными бутылками, голубой бассейн, сауна, импортная музыка, не говорящие по-русски блондинки в шезлонгах. Пожилых глаз как-то не замечал, болезнь юности. Вокруг все новенькое блестит чистотой и медью, пока не свинтит дверные ручки, краны, унесет туалетную бумагу, посуду, бокалы советский турист на внутренних рейсах. Тогда ободранное судно поплетется в Болгарию на ремонт, зализывать раны… По весне – все сначала.
В Средиземном море жарко, в малюсеньких четырехместных каютах без кондиционера делать нечего, даже спать. Спим на двухъярусных койках, завернувшись в смоченные под краном простыни. Успеть заснуть, пока они не высохли. Проснулся, и сразу вон из душегубки в рай на палубы к бассейну. Туристы в городе, можно загорать.
Моя вахта «собачья», с 4-х ночи до 8-ми утра. Отстоишь, примешь душ, поспишь до 12, и гуляй до 4-х дня. После обеда снова в машину до 8-ми вечера. Потом душ, ужин с командой, и вечер твой. Не очень засвечиваясь, проникаешь в бары, и жадные до приключений одинокие пассажирки отдаются прямо в танце.
Года хватило, чтобы одуреть от этого разврата. В отделе кадров удивились, но просьбу удовлетворили и отправили на танкера. В Хиросиме, на верфи Мицубиси вскоре уже ползал под пайолами только что выстроенного для СССР танкера серии «Л» – «Луганск».
Всюду автоматика и лабораторная чистота. Гигант в 64 тысячи тонн дедвейт, это водоизмещение. Два главных двигателя в 20 тысяч лошадей и два огромных винта дают до 32-х узлов, это 60 км в час. Акулы не угонятся. Длина корпуса – 217 метров, по палубе можно на мотоцикле гонять. Лифт – на восемь палуб. У каждого члена экипажа каюта с иллюминатором, с душем и кондиционером. На верхней палубе бассейн, волейбольная площадка, настольный теннис, гири, штанга.
На пишущей машинке, подарок старпома, пишу краткие заметки, ищу свои слова о Стране Восходящего солнца. Перво-наперво из головы не выходит 1946 год, Хиросима и Нагасаки. Где следы атомного Армагедона – в воздухе, в атмосфере, в сознании переживших этот кошмар? А нигде! Американская музыка в барах, английская речь на улицах, улыбки и вежливые, изящно резкие в движениях японцы. Быстро заживают раны в стране самураев.
Жизнь японской улицы – скороговорка. Несутся из метро на работу и рассасываются по дороге. В полдень в сотнях окон поднятые вверх руки – обязательная физзарядка. И снова за работу. Работа для них – не наша с перекурами. С полной отдачей. После 6-ти вечера выбегают в рассыпную из всех дверей. Как насосом, их всасывает метро. Четкий ритм этого огромного организма поражает. Что заставляет их так стараться? Вот нам бы такой народ, давно б перегнали Америку.
Лучи осеннего японского солнца ласкают загорелое тело. Рядом на нагретой солнцем палубе кто-то с приблатненными интонациями поет про девушек из Нагасаки, не подозревая, что сочинила эти стихи советская поэтесса Вера Инбер. Бассейн на судне маленький, но глубокий. А слабо ласточкой с вентиляционной трубы? Высота метра три, глубина бассейна – два. Вхожу в воду почти плашмя, руками успеваю оттолкнуться от дна. Никто повторить не решался. И хорошо. Кому нужны сломанные шеи?
Второй помощник капитана, однокашник Валера Борисов хвастается покупками:
– Смотри, чем комсостав подтирается!
Впервые вижу рулоны нежнейшей туалетной бумаги. Интересно, а куда они газеты девают? Играем на спор партию в настольный теннис. Я ставлю комплект пластинок Поля Анка. Он – рулоны. Проигрываю.
– Заходи, дам подтереться.
Дружно жили, весело. Put your hand on my shoulder… Поль Анка.
Наконец, прошли ходовые испытания. Теперь мотористу в машинном отделении практически делать нечего. Только следить за приборами. Скучаю на вахте. Прилетела из Москвы остальная команда, всего нас теперь 57 человек. Капитан подписал документ о приемке, и «Луганск» взял курс на Сингапур. Прощай, Япония! Каждый везет сбереженную валюту до Сингапура. Там, говорят бывалые, есть знаменитый «малай базар». Сингапур, город без тени, солнце в зените, жара за сорок – уже на траверзе. Бросили якорь. Стали на рейде.
И вдруг… Радист принял экстренное сообщение: сегодня, 22 ноября 1963 года в Америке убит президент! Убит Джон Кеннеди. Задержан убийца – Ли Харви Освальд. Как такое возможно? В цивилизованной, такой благополучной стране… Радист сообщает, что говорят. А говорят, что американец этот был подготовлен в СССР. Команда ничего не понимает, только все боятся, что и мы попадем под раздачу. Вот уже капитан со старпомом таможенным катером доставлены в полицию. А как этим азиатам обьяснить, что сбросить атомную бомбу, это мы можем, это понятно. Но убить президента? Мы же не дикари какие-то! Но кок на всякий случай сушит всем нам сухари. Тюрьмы тут ох, какие страшные.
Тем временем наше судно атакует тот самый «малай-базар». Как пиявки, присасываются к бортам десятки джонок, летят вверх из них стальные крюки, цепляются на фальшборт. И по шкотам быстро карабкаются и лезут на палубу, не обращая никакого внимания на нас, темнокожие проворные малайцы. Быстро-быстро теми же крюками втаскивают тюки с товарами. Так же молча и шустро огораживают свои делянки, разбрасывают прямо на палубе плавки, майки, рубашки, джинсы, пестрые женские кофточки, обувь. И откуда только столько трепья? Стою, раскрыв рот.
Наглый малаец сует мне колоду карт:
– Гоу, – говорит, – туалет!
Кому туалет? Зачем в туалет? Мельком вижу – это порно картинки, они жгут руки, стыдно глаза поднять. Бросаю их прямо на тряпки. А по трапу уже поднимаются живьем они, юность планеты. Идут, играя бедрами, навстречу нашим жадным взглядам. Ой, что делать?
– Каюта? Туалет? Мне очень нужно, сэр! – передо мной длинноногое, открытое любви загорелое тело. Оливковые ее глаза насмешливо смотрят прямо в душу.
Дался ей этот туалет! К себе? В каюту? Как вести себя в подобных случаях, ччерт!! Ну, впущу, а дальше? Что с ней делать? Даже угостить нечем…
Сигнал громкой связи выводит из ступора:
– Внимание экипажа! Всем свободным от вахты выдворить шлюх с судна!
Какое облегчение. И вот они уже дисциплинировано спускаются по трапу, всем своим видом показывая, чего мы лишились.
– Russian оnanist! – я уже слышал эти обидные выкрики от европейских красоток вдоль узкого Кильского канала в Балтийское море. Мы единственные во всем мире, кому не разрешены их соблазнительные услуги. Но онанизмом мы не занимались, как ни странно. Кто-то говорил, судовой врач бром в компот подливал…
Командование вскоре вернулось на борт. Войны, кажется, не будет. Шипшандер уже доставил на борт запасы продуктов, палубная команда подняла якоря, и «Луганск» взял курс на Южную Америку. Плывет стальная громадина, не тонут ее шестьдесят четыре тысячи тонн, как ни странно. А вокруг океан до горизонта и такое же, без границ, синее небо. В Атлантике погода штилевая, идем ходко, 23 узла. Это под сорок км в час, как авто. Только белый буран за кормой. В машинном отделении прохладно, кондиционер работает бесшумно. На приборах трепещет стрелками напряженная жизнь судового сердца. Делать на вахте нечего.
Стакан рислинга после обеда (положено на экваторе!) и загорай до вахты, думай о смысле жизни, готовься в аспирантуру… Только учебники, захваченные с собой в рейс, валяются не открытыми. Здесь мы другие. Аргонавты мы. С виду нормальные граждане, а на деле аргонавты, сшивающие своими кругосветками, как пенистыми нитками города и страны. Туда-сюда, стежки такие белые за кормой. Но след исчез, и нитка порвалась. Постепенно истлеют и порвутся связи с прошлой береговой жизнью, забудутся увлечения, вычеркнут тебя из телефонного списка твои знакомые, перестанут ждать близкие, а когда вдруг вернешься, и разговаривать будет не о чем. Не всякий годен для такого.
Большой мир где-то там, а ты, загорелый и просоленный, появишься мельком на берегу, набросишься на эту ускользающую от тебя жизнь, припадешь к ней, как умирающий от жажды к источнику, напьешься, промотаешь зарплату и… отвалишь. Снова в море! А если задержишься, будешь томиться на берегу, даже заболеешь, выбитый из привычной колеи судового расписания, не зная, как жить иначе, чем по четыре через восемь…
Бразилия началась с того, что ночью на рейде у порта Сантос нас ограбили. Пока перекачивали нефть бортом к борту в маленький местный танкерок, поднимая осадку для входа в мелководье, шустрые бразильцы забрались в наши спасательные мотоботы и обобрали их под чистую. Капитан махнул рукой: ладно, чего мелочиться? Братская помощь третьему миру.
Солнце встало, и сквозь золотистый туман показалась мечта Остапа Бендера. Пришли в порт узким проливом, по обе стороны зеленые болота, наверное, с крокодилами? Открылся грязный порт, пакгаузы, краны. Пришвартовались среди таких же танкеров. Первая партия счастливчиков сразу рванула в увольнительную, вон они уже на трапе, нарядные, хрустят долларами в карманах.
А мы пока на вахте. Открыли стальные двери в боках гигантских цилиндров, полезли в еще не остывшую их утробу с железным шкребком – сдирать жирный чёрный нагар на раскаленном металле. В телогрейке, с ушанкой нахлобученной по самые брови, с фонарём на поясе и со шкотом, привязанном к щиколотке, ныряю в пекло. Веревка, это чтобы вытащили, когда сознание потеряешь. Выдержать можно минуты три, не больше. Вытянут, окунёшь голову в ведро с холодной водой, ушанку на уши, и обратно. Требует русских рук японская технология.
Но пришла, наконец, и наша очередь в увольнительную. Отмылись под душем. Мыло копоть не берет, только едкий антинакипин, от которого вылезают волосы. Но зато отмывает, оставляя только черные ободки вокруг глаз.
Вдохни этот маслянистый воздух, пропахший кофейными зернами, загадай желание. Чего ты хочешь, молодой, здоровый, полный сил? Чего хочешь, парень? Вот ты и в Бразилии, на краю Ойкумены, трясешься в открытом трамвайчике без стен из порта Сантос куда-то в центр иной цивилизации. Может быть здесь откроется, наконец, тебе тайный смысл твоего собственного бытия?
Он, правда, скорее закроется, когда два веселых смуглых парня на центральной площади в Сан-Пауло, по-братски похлопывая меня по плечу, вытащат из заднего кармана кошелек с тремя тысячами долларов, всю зарплату за почти год заграничного плавания.
В другой раз в моей пятерке (по одному не пускали) оказался Вася, кок судовой, бывалый моряк. Он и повел нас сразу, куда надо. А именно в аптеку, спирт покупать.
– Чудак, а где же ещё по такой цене, дешевле семечек?
Хозяин аптеки долго не врубался, чего хотят эти иностранцы. Потом принес запылённую бутылку. Вася узнал, обрадовался, как ребенок. Давай, говорит, пусть стакан принесет.
Хозяин удивился:
– Зачем стакан? Вот тряпочка.
– Зачем тряпочка? Пусть стакан.
– Но у нас спиртом лошадей протирают.
– А у нас желудок полируют. Скажи ему.
Я не знал, как это перевести, но хозяин уже догадался сам. Шмыгнул в заднюю дверь, прибежали мать и дочь, стоят втроем, таращатся. А Вася свинтил крышку, налил в стакан и просто слил 200 грамм в горло. Обтерся рукавом и сказал хозяину:
– Давай ящик, 12 бутылок!
– И мне, и мне! – загалдела наша пятерка.
Аптекарь допытывался, кто мы, откуда. На слово «русские» никак не реагировал. Такая глушь, эта Бразилия! Только имя Терешковой пробудило что-то в его сознании:
– А-а-а, коммунисты!..
Пока мы по очереди прикладывались к «лошадиной жидкости», обалдевший хозяин помчался на машине за товаром. Смотрим, возвращается, а за ним толпа. Любопытные. Как дикари, честное слово. Ну, мы им показали. Затем грузили ящики в его машину и медленно поплыли в порт. Куда спешить? За нами процессия, поют, танцуют. Карнавал какой-то устроили из серьёзного дела. У проходной довольный аптекарь вручил нам каждому по мешочку бразильского кофе.
Но тут случился конфуз. Оказывается, вывозить из Бразилии кофе мешками нельзя.
– Маленькими же!
– Not allowed, sir. Все равно нельзя!
Темнят бразильцы чего-то. Но Вася опять всех выручил. Достал припасенные мерзавчики «Столичной» и вручил с краткой, но выразительной речью таможенникам. Те сразу как будто поняли, и ворота открылись. Но на трапе уже нас ждал помполит:
– Ящики ставим вот сюда. Вахтенный, отнести это добро в баталерку. Ключ мне. Дома получите!
Что ж, целей будут. Этим спиртом я буду спаивать Ленинградский комсомол, который полюбит ходить в гости к вернувшейся на родину из дальнего рейса команде… Тогда и возникнет человек из ЦК ВЛКСМ Вадим Чурбанов, которому суждено будет развернуть мою жизнь на 180 градусов. Но это еще впереди, в будущем, которое надвигалось как бы само собой, никого не спрашивая и не перед кем не отчитываясь.
Пока берем в Сантосе сырую нефть и идем на Кубу. Снова океан и огромный гриф, тяжело опустившийся на теплую палубу. Сидел, нахохлившись, спрятав стальной клюв свой, пока кок не вынес ему кусище сырого мяса на лопате. Мясо сглотнула птица мгновенно, а следующим ударом клюва перебила черенок лопаты и, лениво расправив гигантские черные крылья, улетела куда-то в сторону невидимого берега.
Под Кубой, у американской военной базы Гуантанамо настиг нас ураган. Флора – так его уже назвали по радио. А для нас что Флора, что не Флора – просто при полном штиле и ярком солнце перед самым носом «Луганска» стеной встал на дыбы океан. И ушел наш танкер в гигантскую волну, закрывшую небо, как подводная лодка. Вынырнул. Опять нырнул. Где-то в каюте мотористов напор океана пробил неплотно закрытый иллюминатор. Пока закрывали второй стальной крышкой, вода заполнила каюту и понеслась рекой по длинному коридору. Так и не вынырнуть можно, мелькнуло, пока вода стремительно заполняла пенал коридора.
Течь обнаружилась в кормовом отсеке, где гребной вал. Я как раз на вахте. Значит, мне в рыло водолазный костюм, ключи, набивку для пробитого водой сальника, и пошел! Бьет струя в маску, вырывает из рук пропитанный солидолом фитиль, но конопачу, закрываю течь миллиметр за миллиметром. Сделано. И снова в машинное отделение – мотаться вслед за качкой от одной бортовой переборки к другой, следить за приборами. Вахта кончилась, но сменщика нет, он блюет, принайтованный тремя ремнями к койке. Надрывались дизеля, оттягивая киль огромного танкера от рифов. Но танкер медленно, неотвратимо несет на рифы Острова Свободы.
Завис над нами американский военный вертолет. Пилоты уже сбросили веревочный трап:
– Давай, русские, спасайся!
Но команды спасаться не было. Значит, будем стоять до конца. К счастью, ураган Флора ушел дальше на север, как и пришел – внезапно, покрыв Сантъяго де Куба толстым слоем желтого ила. Странно так, был город и нет его. Только торчат верхушки деревьев и трубы. Так что сходить на берег так и не пришлось.
Нефть быстро откачали, тут же начали мыть танки, отмывали, драили, сушили огромные ёмкости. После этого «Луганск» загрузили кубинским сахаром, и почапали мы домой. Снова бескрайний океан, теперь Атлантический.
И тут навалилась непрошеная, незаметно копившаяся тоска: где-то далеко крутятся маховики истории, приближая светлое будущее без моего участия, пока я здесь в бескрайнем океане ишачу, сырую нефть туда-сюда. Лежу после вахты на теплой палубе, хоть лижи ее, соленую, остывающую после тропического солнца. Подрагивает палуба – это урчат в утробе гигантской стальной сигары дизеля. Запрокинув голову, смотрю на Южный Крест на синем бархате ночного неба и ищу среди мерцающих звезд свою. Где она, моя путеводная?..
Ворочалась на прокрустовом ложе обстоятельств душа, требовавшая участия во всем, чем занято устремленное в будущее человечество, и маялась, невостребованная. И впадал ум в тоску. Ни есть, ни спать. Лежал в судовом лазарете, бессмысленно смотрел в белый потолок. Судовой врач записал: «Нервное истощение, глубокая депрессия…» Такие долго не плавают.
А Одесса хоронила своих сынов. Гробы стояли в фойе Дворца моряков на Приморском бульваре. Люди запрудили Дерибасовскую, от нее и Пушкинскую, медленно двигаясь к гробам. Безмолвно расступалась толпа и пропускала сквозь себя моряков, опустив глаза, отдавая вековую дань скорби по не вернувшимся. И уважения тем, кто снова уходил в море. Утонула в Бискайском заливе «Умань» с грузом железной руды. Перевернул шторм шестнадцать тысяч тонн железа, и ушли на дно наши товарищи с капитаном Бабицким на мостике. Спасшиеся молчали. С них взяли подписку не рассказывать, как грузили в Туапсе мерзлую руду, и как растаяла она в Средиземном море и сползла ее шапка на правый борт, и как в левый борт била волна и кренила и кренила судно, и как закачали баласт почему-то в верхние, а не нижние баластные танки, и как почему-то не стали кормой к волне и не взяли курс на ближайший порт Кадис, всего-то в тридцати милях.