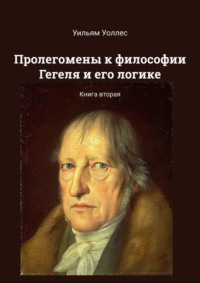Полная версия
«Философия разума». Гегеля. Книга четвертая
Но даже в лучшем случае такая популярная или эмпирическая психология не имеет особых претензий на звание науки. Можно, конечно, сказать, что она, по крайней мере, собирает, описывает или записывает факты. Но даже это не так однозначно, как кажется. Ее так называемые факты в значительной степени являются вымыслом или настолько интерполированы ошибками, что их нельзя смело использовать для построения. Если психология хочет добиться чего-то ценного, она должна работать более радикально. Она должна – по крайней мере, в некоторой степени – отбросить из своего предварительного взгляда данные общих и текущих различий и попытаться добраться до чего-то более первичного или конечного в качестве отправной точки. И это можно сделать двумя способами. В одном случае он может последовать примеру физических наук. В них принято считать, что объяснение сложных и конкретных фактов достигается (а) постулированием некоторых простых элементов (которые мы можем назвать атомами, молекулами, а возможно, единицами или монадами), которые, как предполагается, ясно мыслимы и оправдывают себя внутренней разумностью, и (б) предположением, что эти элементы соединяются и комбинируются в соответствии с законами, которые опять-таки в последней инстанции самоочевидны или таковы, что кажутся очевидными и ощутимо ясными. Кроме того, такие законы, будучи всегда аксиомами или простыми постулатами механики (ибо только они обладают этой особенностью самоочевидной понятности), подчиняются всем вспомогательным средствам и уточнениям высшего математического исчисления. Какими могут быть первичные и самообъясняющиеся биты психической реальности – это еще один вопрос, по которому могут быть некоторые споры. Они могут быть, так сказать, взяты в более физическом или в более метафизическом смысле: т. е. скорее как единицы нервной функции или скорее как элементы идейной функции. И могут быть различия в том, насколько и в каких областях может быть применимо математическое исчисление. Но, в любом случае, в психологии, работающей по этому плану, будет наблюдаться сильная тенденция следовать, mutatis mutandis, и, возможно, на некотором расстоянии, аналогии с материальной физикой. В обоих случаях оправданием постулируемых единиц и законов будет их способность единообразно и последовательно описывать и систематизировать наблюдаемые явления.
Другой способ, с помощью которого психология получает основание и скрытую уверенность, является иным, более глубоким. В конце концов, «научный» метод – это лишь способ, с помощью которого факты данной сферы представляются в тесной взаимосвязи, каждый из которых сводится к точному кратному или долевому отношению к другому, путем неизменно продолжающегося вычитания и добавления предполагаемого однородного элемента, найденного или предполагаемого как вполне мыслимый (conceivable). Но мы можем также рассматривать провинцию в связи со всей сферой реальности, можем спросить, каково ее место и значение в целом, к чему в конце концов стремится или приходит реальность, и насколько эта особая провинция способствует достижению этой цели. Поступая таким образом, мы присоединяем психологию к философии, или, если мы предпочитаем называть ее так, к метафизике, поскольку в первом случае мы основывали ее на общепринятых принципах, определяющих метод физических наук.
Этот вопрос – отношение психологии к фундаментальной философии – возникает и при рассмотрении этики. Те, кто занимается этими вопросами, испытывают определенное нетерпение по отношению к вмешательству (которое, как считается, является лишь замутнением) метафизики в них. Очевидно, что и психология, и этика могут, по крайней мере, до некоторой степени, рассматриваться как то, что называется эмпирическими (или, если использовать более английское выражение, индуктивными) науками. Во многих случаях так и поступают: и не безрезультатно. Учитывая тенденцию к метафизическим исследованиям, можно утверждать, что следует избегать предварительной критики существующих концепций и представлений о реальности, которые подразумевают эти науки. Однако такие убеждения, несомненно, существуют и действуют. Шопенгауэр популяризировал принцип, согласно которому чистый эмпирик – это фикция, что человек – радикально метафизическое животное и что он неизбежно превращает то, что получает, в часть догматического вероучения – убеждения, как все должно быть. Почти без всяких усилий в нем вырастает или вливается в него убеждение и система убеждений относительно порядка и ценности вещей. Любое суждение, даже в логике, опирается на такой порядок истин. Ему не нужно уметь формулировать свое вероучение: оно все равно будет влиять на него: более того, его вера будет казаться тем большей частью твердой земли и общей реальности, чем меньше она сведена к определенному вероучению или своду принципов. Ведь такая формулировка предполагает сомнение и скептицизм, которые она отбивает простыми утверждениями. У каждого человека есть такие убеждения, которые управляют его действиями и представлениями и в отношении которых его так пугает мысль о возможности сомнения, что он отворачивается в догматическом ужасе. Такие правящие идеи различны у разных мужчин и женщин – если рассматривать их во всех мельчайших подробностях. Но прежде всего они представляют собой по-разному организованную систему или совокупность в зависимости от того, к какому социальному и образовательному слою принадлежит человек. Каждая группа, занятая общим делом – может быть, изучением какой-либо части природы, – в идеале связана и обязана общим языком и особыми стандартами истины и реальности для себя. Такую группу идей Бэкон назвал бы научным фетишем или театральным идолом. Научный идолум – это традиционная вера или догма относительно принципов, ценностей и методов, которая настолько пропитала умы тех, кто занимается какой-либо отраслью исследования, что они больше не признают ее гипотетический характер, ее связь средств с главной целью их функционирования.
Такая собранная и единая теория реальности (именно ее Гегель обозначил как Идею) и есть то, что понимается под естественной метафизикой. Она не имеет ничего общего со сверхчувственным или сверхъестественным, если под этими словами подразумевается призрачная, материализованная, но сверхтонкоматериальная природа, находящаяся над и за пределами настоящего. Но то, что существует устойчивая тенденция представить единство и связность, теоретическую идею реальности в этой псевдочувственной (т.е. сверхчувственной) форме, конечно, хорошо известно. Однако на данный момент эта аберрация – этот идол племени – может быть оставлена без внимания. Под метафизикой или фундаментальной философией в данном случае подразумевается система первых принципов – светское и космическое вероисповедание: вера в цели и ценности, вера в истину – при том, что данная система для большинства представляет собой грубо организованную и почти невнятную массу веры и надежды, убеждений и впечатлений. Короче говоря, это естественная метафизика: метафизика, которая имеет лишь несовершенную последовательность, которая несовершенно осознает как свою природу, так и свои границы. В некоторых частях, однако, она больше и лучше, чем этот грубый фон веры. Каждая наука – или, по крайней мере, каждая группа наук – имеет более определенную систему или совокупность принадлежащих ей первых принципов, аксиом и концепций. У нее есть, то есть – и здесь гораздо более отчетливо – свой особый стандарт реальности, свои особые формы представления о вещах, свои различия между действительным и очевидным и т. д. И здесь, вероятно, обнаружится, что научный специалист вряд ли осознает, что это принципы и концепции: напротив, они будут считаться самоочевидными и окончательными фактами, основами бытия. Вместо того чтобы рассматриваться как способы концепции, более или менее оправданные их использованием и результатами, эти категории будут рассматриваться как фундаментальные факты, существенные условия всей реальности. Как и народная мысль с ее укоренившимися категориями, специалист не может понять возможности какого-либо ограничения своих радикальных представлений о реальности. Для него это не гипотезы, а принципы. Научный специалист может быть так же убежден в универсальном применении своих особых категорий, как китаец или эскимос в том, что его стандарты естественны и окончательны.
На таких метафизических или внеэмпирических предпосылках ведется любое исследование, будь оно грубо эмпирическим или (в физическом смысле) научным. И когда оно проводится, то считается, что оно осуществляется без какого-либо вмешательства со стороны метафизики. Такая наивная или естественная метафизика, не доведенная до явного сознания, не соблюдаемая как навязанное правило, но управляемая силой имманентной веры, вообще не считается метафизикой для тех, кто под ней живет. Мсье Журден был поражен, когда вдруг узнал, что сорок лет говорил прозой, сам того не зная. Но в данном случае есть нечто худшее, чем изумление, которое наверняка будет вызвано этой новостью. Ведь критик, раскрывающий таким образом тайны сердца ученого, наверняка скажет, что многое в этой наивной метафизике бессознательного непоследовательно, противоречиво, даже дурно: что она требует исправления, пересмотра и корректировки, и с помощью критики должна стать единой и гармоничной. Эта корректировка или критика, которая должна устранить противоречие и привести к единству, является целью науки метафизики – науки о метафизическом элементе в физическом знании: то, что Гегель решил назвать наукой логики (в широком смысле этого слова). Эта высшая логика, эта наука метафизики, представляет собой процесс пересмотра и гармонизации в систематической полноте несовершенных или вводящих в заблуждение и частичных оценок реальности, которые можно найти в популярной и научной мысли.
В случае с физическими науками этот пересмотр не столь необходим, и не по какой-либо очень банальной причине. Каждая наука по своей природе имеет дело с особой, ограниченной темой. Она ограничивается частью или аспектом реальности. Ее предложения не являются полными истинами; они относятся к искусственному миру, к части, явно оторванной от конкретной реальности. Ее принципы, как правило, разрезаются по ткани, в зависимости от диапазона, в котором они применяются. Единственная опасность, которая вполне может возникнуть, – это если эти категории будут перенесены без должных оговорок и сделаны универсальными, то есть если ученый решит на основе своей специальности произнести de omnibus rebus. Но в случае с психологией и этикой безвредность естественной метафизики будет менее очевидной. Здесь общечеловеческий или универсальный интерес является почти неизбежным коэффициентом: особенно если они действительно поднимаются до полного охвата предмета. Ведь как таковые они имеют дело не с частью реальности, а с самим центром и целью всей реальности. В них мы имеем дело не с темами, представляющими второстепенный интерес, а с самой сутью человеческой проблемы. Здесь на первый план выходят вопросы реальности и идеалов, единства и разнообразия, оценки существования. Если психология должна ответить на вопрос «Что я есть?», а этика – на вопрос «Что я должен делать?», то они вряд ли смогут работать без некоторого сформулированного кредо метафизического характера, без предварительной критики существующих первопринципов.
2. Гербарт
Немецкий мыслитель, давший, возможно, самый плодотворный стимул научному изучению психологии в современную эпоху, – Иоганн Фридрих Гербарт – по сути своей философ, а не просто ученый, даже в своей психологии. Его психологические исследования находятся в тесной связи с последними вопросами всего интеллекта, с метафизикой и этикой. Дело философии, говорит Гербарт, состоит в том, чтобы подправлять и завершать концепции (Bearbeitung der Begriffe)22. Наблюдая за нефилософским миром, она обнаруживает, что простые и чистые факты (если вообще существуют или существовали такие чистые факты) окутаны облаком теории, сведены в некое единство, но сведены несовершенно, неадекватно: и что существующие в настоящее время понятия нуждаются в исправлении, дополнении и корректировке. Соответственно, ее задача – «примирить опыт с самим собой23 и выявить «скрытые предпосылки, без которых факт опыта немыслим». Психология, как ветвь этого философского предприятия, должна корректировать факты, открытые во внутреннем опыте. Ведь некритичный опыт или просто эмпирическое знание предлагают только проблемы; они предполагают пробелы, которые, действительно, дальнейшая рефлексия служит сначала только для углубления в противоречия. Такая психология «спекулятивна»: то есть она не довольствуется принятием простой данности, а идет вперед и назад, чтобы найти что-то, что сделает факт понятным. Она использует совершенно иные методы, чем «классификация, индукция, аналогия», знакомые логике эмпирических наук. Поэтому ее «принципы» – это не данные факты, а факты, которые подверглись манипуляциям и корректировке, чтобы утратить свою самопротиворечивость: это факты, «редуцированные» путем введения опущенных отношений, которые они постулируют, если хотят быть истинными и самосогласованными24. Поэтому, хотя психология далека от того, чтобы отвергать или игнорировать опыт, нельзя сказать, что она опирается только на него. Она использует экспериментальный факт как незаконченную данность, – или же видит в опыте торс, который выдает ее несовершенство и предлагает дополнить.
Отправной точкой, можно сказать, психологии Гербарта является вопрос, который для обычного психолога (и для так называемого научного психолога) имеет второстепенное значение, если он вообще представляет интерес. По его словам, именно проблема личности, проблема Я или я, впервые привела его к характерной концепции психологического метода. «Моим первым открытием, – рассказывает он25, – было то, что Я не является ни примитивным, ни независимым, а должно быть самым зависимым и самым обусловленным, что только можно себе представить. Второе заключалось в том, что элементарные идеи разумного существа, если они когда-нибудь достигнут уровня самосознания, должны быть либо полностью, либо хотя бы частично противоположны друг другу, и что они должны сдерживать или блокировать друг друга в результате этого противостояния. Однако, хотя эти идеи и сдерживаются, их нельзя считать утраченными: они сохраняются как стремление или тенденция вернуться в положение актуальной идеи, как только сдерживание по какой-либо причине становится полностью или частично недейственным. Эта проверка может и должна быть вычислена, и таким образом стало ясно, что психология нуждается в математическом, а также метафизическом фундаменте». Место понятия «Я» в теории познания Канта и Фихте хорошо известно. Столь же хорошо известно отношение Канта к душе-реальности или душе-субстанции в его «Рациональной психологии». Если (логическое) единство сознания, или «синтетическое единство апперцепции», принимается в качестве фундаментальной отправной точки в объяснении наших объективных суждений или нашего знания об объективном существовании, то его реальное (в отличие от формального) основание в «субстанциальной» душе отбрасывается как неправомерная интерпретация или вывод из фактов внутреннего опыта. Вера в отдельное единство и постоянство души, говорит Кант, не является научно обоснованным выводом. Ее истинное место – как неизгладимый постулат веры, вдохновляющей человека на жизнь и действия. Гербарт не успокоился ни на одном из этих, как он считал, догматических предположений своего учителя. Он не стал с радостью присоединяться к идеализму, который, казалось, был готов обойтись без души или который оправдывал свое признание эмпирической реальности ссылкой на фундаментальное единство функции суждения. С сильным стремлением к полностью дифференцированному и индивидуализированному опыту Гербарт соединил убежденность в необходимости логического анализа, чтобы не дать нам увлечься первыми попавшимися и неадекватными обобщениями. я, которое в своей предельной абстракции он определял как единство субъекта и объекта, не давало, как ему казалось, должных гарантий реальности: оно само было проблемой, полной противоречий, ждущих решения. С другой стороны, реальное я, или Я конкретного опыта, гораздо больше, чем эта логическая абстракция, и сильно различается от индивида к индивиду, и, по-видимому, время от времени даже у одного и того же человека. Наше «я», о котором мы так свободно говорим, как о едином и неизменном, – насколько оно действительно обладает той непрерывностью и идентичностью, которые мы ему приписываем? Не кажется ли оно скорее идеалом, который мы постепенно формируем и ставим перед собой в качестве стандарта для измерения наших достижений в данный момент, – совершенным исполнением того единства бытия, цели и знания, которого мы никогда не достигаем? Иногда даже он кажется не более чем именем, которое мы переносим на различные явления нашей внутренней жизни, в одно время отождествляя его с силой, одержавшей победу в нравственной борьбе, в другое – с той, которая потерпела поражение26, в зависимости от того, как отношение момента заставляет нас выдвигать на передний план то один, то другой аспект психической деятельности.
Другое или логическое Я – простое тождество субъекта и объекта, – когда оно берется в своей абсолютной абстрактности и простоте, сводится к чему-то очень маленькому, к чему-то, что немногим лучше, чем ничто. Простое Я, которое не различается на Ты и Оно, которое лишено всякой определенности предикации (Я=Я Фихте и Шеллинга), – это лишь как бы точка бытия, отрезанная от всех своих связей в реальности и рассматриваемая так, как если бы она была или могла быть совершенно независимой. Это тождество, в котором еще не появились субъект и объект: это не настоящее Я, хотя мы можем сохранить это имя. Оно – как говорит нам гегелевская логика – точно определяется как Бытие, которое пока еще есть Ничто: невозможная грань абстракции, на которой мы тщетно пытаемся удержаться в начальной точке мысли. А достичь или встать на эту неосязаемую, непостижимую точку, которая ускользает по мере приближения и трансформируется по мере удержания, – это не естественное начало, а результат интроспекции и рефлексии над конкретным «я». Но этот аспект вопроса нас сейчас не касается.
В том, что единство Я как разумного и нравственного существа, что я самосознания – это идеал и продукт развития, Гербарт вскоре убедился. Единство Я даже в том виде, в каком оно дано в зрелом опыте, является несовершенным фактом. Это факт, который не соответствует тому, что он обещал, и требует дополнения или философского обоснования. Здесь и везде обычай жизни переносит нас через пробелы, которые глубоко зияют перед взором философской рефлексии: хотя случай и болезнь нередко заставляют их преодолевать даже самых слепых. Проследить процесс объединения в это единство – проследить, если хотите, даже формирование концепции такого единства как руководящего и направляющего принципа в жизни и поведении – становится проблемой психолога в самом широком смысле этого слова. От души (Seele) к разуму или духу (Geist) – это для Гербарта, как и для Гегеля, курс психологии26. Рост и развитие разума, формирование самости, реализация личности – для обоих это тема, которую должна раскрыть психология. И Гербарту, не меньше, чем Гегелю, пришлось вынести порицание, что такая концепция психической реальности как роста разрушает личность27.
Но при столь общих чертах общего плана оба мыслителя глубоко расходятся в особом способе выполнения задачи. Вернее, они направляют свои силы на разные части целого. Большой практический интерес Гербарта был связан с теорией воспитания: «Педагогика» – тема его первых важных работ. Внутренняя история идей – процессы, основанные на взаимодействии элементов в индивидуальной душе, – это то, что он специально прослеживает. Интересы Гегеля, напротив, направлены скорее на более широкий процесс, единство исторической жизни и соотношение действующих в ней сил искусства, религии и философии. Он обращается к макрокосму почти так же естественно, как Гербарт – к микрокосму. Так, даже в «Этике», в то время как Гербарт дает тонкий анализ отдельных аспектов или элементов этической идеи – разнообразных рубрик, под которыми незаинтересованный зритель внутри груди чисто эстетически оценивает ее приближение к единству и силе цели, Гегель, кажется, спешит уйти из области морального чувства или совести, чтобы броситься к социальной и политической организации моральной жизни. Общая педагогика Гербарта имеет свое продолжение в гегелевской философии права и истории. Уже в раннем возрасте Гербарт осознал необходимость применения математики к психологии28. На обычное возражение, что психические факты не поддаются измерению, у него был готовый ответ. Мы можем вычислить даже на основе гипотетических предположений: действительно, если бы мы могли измерить, нам вряд ли стоило бы тратить время на вычисления29. Вычислить (то есть сделать математический вывод) – значит провести общий эксперимент, причем провести его в среде, где вероятность ошибки или помехи наименьшая. В психической жизни могут быть достаточно явные аномалии: могут быть великие аномалии Гения и Свободы Воли; но Ньютон и Кеплер психологии покажут путем расчета на предполагаемых условиях психической природы, что эти отклонения могут быть объяснены механическими законами. «Человеческая душа – не кукольный театр: наши желания и решения – не марионетки: за ними не стоит жонглер; но наша истинная и правильная жизнь заключается в нашем волеизъявлении, и эта жизнь имеет свое правило не вне, а в себе самой: она имеет свое чисто психическое правило, ни в коем случае не заимствованное из материального мира. Но это правило в ней непреложно и неизменно; и благодаря этому своему неизменному свойству она имеет больше сходства с (в остальном разнородными) законами удара и давления, чем с чудесами якобы необъяснимой свободы30».
Психология имеет дело с реальностью, которая демонстрирует явления, аналогичные в нескольких отношениях тем, которые рассматриваются статикой и механикой. Ее основой является статика и механика Души, – так называется эта реальность. Мы начинаем с того, что предполагаем в качестве конечной реальности, лежащей в основе фиктивного и в целом несовершенного единства самосознания и разума, сущностное и первичное единство – единство абсолютно простой или индивидуальной точки бытия – реальной точки, которая среди прочих точек утверждает себя, поддерживает себя. Она обладает собственным характером, но этот характер она проявляет только в развитии, обусловленном внешними воздействиями. Специфический характер души-реальности состоит в том, чтобы быть репрезентативной, производить или проявлять себя в идеях (Vorstellungen). Но этот характер актуализируется только в конфликте души-атома с другими конечными реальностями в совокупности вещей. Душа сама по себе или изолированно не обладает идеями. Это просто пустое, неразвитое, формальное единство, о котором ничего нельзя сказать. Но, как и другие реальности, она определяет и характеризует себя через антитезу, через сопротивление: она показывает, что она есть, своим поведением в борьбе за существование. Она действует в целях самозащиты: и ее особый стиль или оружие самозащиты – это идея или представление. Душа сохраняет себя, превращая нападающего в идею31: и каждая идея, таким образом, является Selbsterhaltung души. Душа, таким образом, обогащается – внешне или случайно: и нападающий приобщается к ней. Таким образом, единая Душа может развивать, или эволюционировать, или выражать бесчисленное множество идей: ибо в ответ на все, что встречается, живая и активная Душа идеализирует, или порождает представление. Таким образом, хотя душа одна, ее идей или представлений много. Взятые по отдельности, они выражают психическое самосохранение. Но приведенные в связь друг с другом, как множество актов или самоутверждений единой души, они ведут себя как силы и стремятся помешать или сдержать друг друга. Именно как силы, взаимно задерживающие или поддерживающие друг друга, идеи являются объектами науки. Когда представление таким образом сдерживается, оно сводится к простому стремлению или активной тенденции к представлению. Таким образом, возникает различие между собственно представлениями и теми несовершенными состояниями или актами, которые частично или полностью сдерживаются. Но скрытая фаза идеи так же важна для ее глубокого понимания, как и явная. Игнорировать то, что скрыто под поверхностью сознания, – большая ошибка эмпирической психологии. А для Гербарта сознание – это не условие, а скорее продукт идей, которые в первую очередь являются силами.
Но представления не просто противостоят друг другу, препятствуя и сопротивляясь. Та же причина, которая заставляет их сопротивляться, а именно то, что они являются или хотели бы быть актами одной души, но в большей или меньшей степени несовместимы, заставляет их в других обстоятельствах образовывать комбинации друг с другом. Эти сочетания бывают двух видов. Во-первых, это осложнения, или «комплексы»: ряд идей сочетается путем квазидополнения и сопоставления, образуя итог. Во-вторых, это слияние: идеи, представляющие определенные степени контраста, вступают в союз, где части уже не воспринимаются по отдельности. Легко видеть, как проблемы психологии теперь принимают форму статики и механики разума. Количественные данные следует искать в силе каждой отдельной идеи и в степени, в которой две или более идеи блокируют друг друга: в степени сочетания между идеями и в количестве идей в сочетании: и в терминах отношений между членами серии идей. Статическая теория должна показать условия, необходимые для того, что мы можем назвать идеальным состоянием равновесия «идейных сил»: определить, то есть, конечную степень помрачения, которому подвергаются любые две идеи различной силы, и условия их постоянного сочетания или слияния. Механика ума, напротив, будет иметь дело со скоростью, с которой происходят эти процессы, скоростью, с которой в движении ума идеи затемняются или вновь пробуждаются, и т. д.