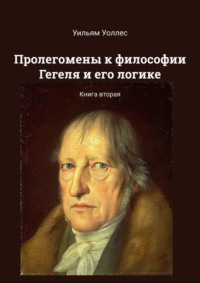Полная версия
«Философия разума». Гегеля. Книга четвертая
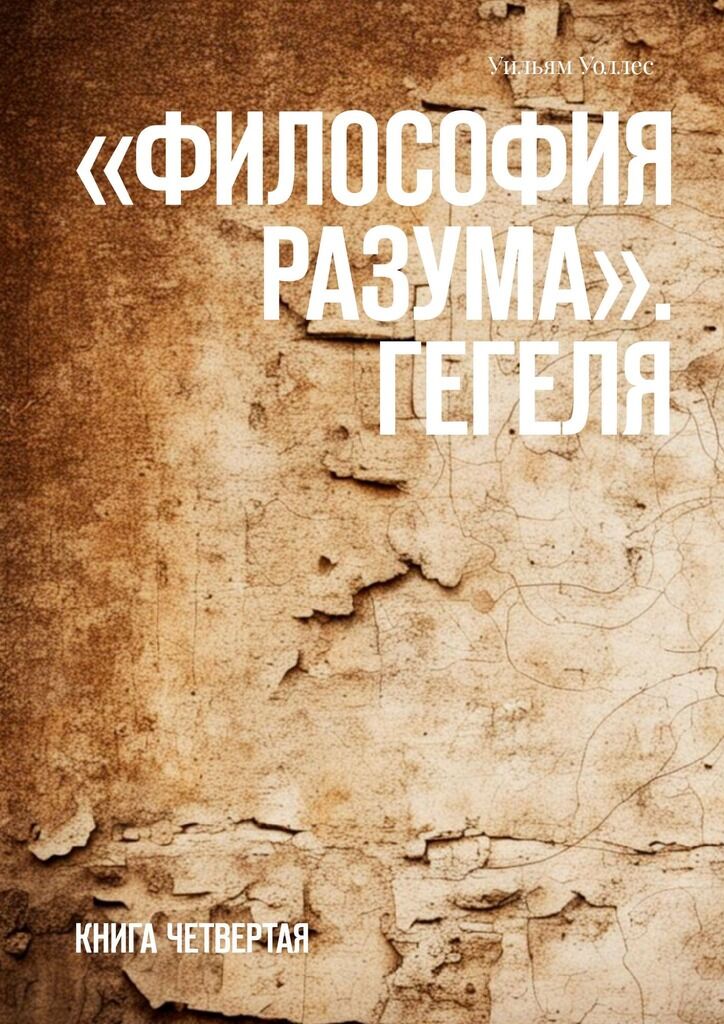
«Философия разума». Гегеля
Книга четвертая
Уильям Уоллес
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
Иллюстратор Валерий Антонов
© Уильям Уоллес, 2024
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
© Валерий Антонов, иллюстрации, 2024
ISBN 978-5-0062-8273-5 (т. 4)
ISBN 978-5-0062-8272-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Я предлагаю вашему вниманию перевод третьей, или последней, части энциклопедического очерка Гегеля «Философия разума». Этот том, как и его предмет, сам по себе является законченным. Но его можно рассматривать и как дополнение или продолжение работы, начатой в моей версии «Логики». Я не осмеливался рассматривать философию природы, которая находится между этими двумя темами. Это провинция, для проникновения в которую потребовалось бы такое количество знаний, на которое я не претендую, – провинция, интерес к которой в наши дни в значительной степени исторический, или, по крайней мере, связанный с историческими обстоятельствами.
Перевод сделан с немецкого текста, приведенного во второй части седьмого тома Собрания сочинений Гегеля, изредка корректируемого путем сравнения с тем, что содержится во втором и третьем изданиях (1827 и 1830 гг.), опубликованных автором. Я воспроизвел только собственные абзацы Гегеля и полностью опустил Zusätze редакторов. Эти добавления, которые по сути являются лекционными примечаниями к параграфам, в тексте Собрания сочинений даны только для первого раздела. Психологическая часть, которую они сопровождают, почти не рассматривалась Гегелем в других местах: но хорошее популярное [pg vi] изложение ее можно найти в «Psychologische Briefe» Эрдмана. Второй раздел был подробно рассмотрен самим Гегелем в его «Философии права» (1820). Темы третьего раздела в значительной степени затронуты в его лекциях по искусству, религии и истории философии.
Не скрою от себя, что текст представляет собой крепкий орешек. И все же местами, даже благодаря переводу, я думаю, что серьезному студенту не помешает прояснить ситуацию. Иногда, как, например, в §§406, 459, 549, а еще чаще в §§552, 573, в конце которых могут стоять слова Liberavi animam meam, писатель действительно «отпускает себя» и дает волю своим мыслям в вопросах, где умозрение тесно соприкасается с жизнью.
В пяти вводных очерках я попытался иногда собрать воедино, а иногда дать дополнительное разъяснение некоторых моментов психической философии. Я не буду пытаться обосновать выбор тем для специального рассмотрения, а лишь надеюсь, что они образуют более или менее связанную группу, и отсылаю за изучением некоторых общих вопросов системы и метода к моим «Пролегоменам к изучению философии Гегеля», которые появились почти одновременно с этим томом.
Оксфорд,
Декабрь, 1893.
Пять вводных очерков по психологии и этике
Эссе I. О сфере применения философии разума
Искусство находить названия, вычленять заголовки, которые привлекают внимание и приводят ум по легким ассоциациям к излагаемому предмету, не было одним из даров Гегеля. Захватывающие фразы, яркие или живописные обороты речи – все это у него есть. Но его оглавления, когда они перестают быть банальными, склонны к причудливости и гротеску. Как правило, его рубрики – это старые и (как нам кажется) малозначительные термины из учебников. Но в гегелевском употреблении эти традиционные обозначения наделены весьма индивидуализированным смыслом. Они могут означать больше – меньше, чем принято считать: но они, несомненно, задают своему значению уникальный и почти личный колорит. И это не может не порождать и не разочаровывать неоправданных ожиданий.
1. Философия и ее части
Даже основные разделы его системы демонстрируют этот консерватизм в терминологии. Названия трех частей «Энциклопедии», можно сказать, ничего не значат для их своеобразного содержания. И на то есть веская причина. То, что Гегель предлагает дать, – это не новая или особая доктрина, а универсальная философия, переходящая из века в век, здесь суженная, там расширенная, но по сути все та же. Она осознает свою преемственность и гордится своей идентичностью с учениями Платона и Аристотеля.
Самые ранние попытки греческих философов представить философию в законченном и четко сформулированном виде – попытки, обычно приписываемые стоикам, школярам античности, – представляли ее как трехчастное целое. Этими тремя частями были логика, физика и этика. В своей совокупности они должны были образовать цикл единого знания, удовлетворяющего потребности как теории, так и практики. Со временем, однако, ситуация изменилась: если старые названия и остались, то их объем и значение претерпели множество изменений. Новые интересы и любопытство, вызванные изменившимися обстоятельствами, привели к тому, что в фокус исследования попали другие области реальности, помимо тех, которые в основном обсуждались под старыми названиями. Исследования становились все более специализированными, и каждое из них стремилось отделиться от остальных как самостоятельная область науки. В результате в наше время территория, все еще отмеченная древними названиями, сократилась до призрака своего прежнего объема. Почти действительно, дело дошло до того, что освященные временем фигуры канули в Лету, в то время как реальное дело знания выполнялось более молодыми и менее традиционными направлениями исследований, к которым призывали потребности и мода времени. Так, Логика, в узком формальном смысле, превратилась в «искусство» аргументации и систему технических правил для анализа и синтеза академических дискуссий. Физика, или натурфилософия, ограничилась разработкой некоторых метафизических постулатов или гипотез относительно общих режимов физического функционирования. А этика превратилась в весьма непрактичное обсуждение тонкостей, касающихся моральных способностей и моральных норм. Тем временем теория научного метода и законов, управляющих ростом интеллекта и формированием идей, росла и оставляла старую логику погибать от формальности и бессодержательности.
Сменяющие друг друга отделы физической науки, каждый из которых в свою очередь утверждал свою независимость, в конце концов не оставили натурфилософии выбора между тем, чтобы цепляться за свои устаревшие гипотезы и абстрактные обобщения, или отождествлять себя (как выразился Ньютон в своей великой книге) с Principia Mathematica физических наук. Этика, в свою очередь, оказалась, с одной стороны, заменена психологическими исследованиями отношений между чувствами, волей и интеллектом; с другой стороны, множество социальных, исторических, экономических и других исследований оторвали ее от реальных фактов человеческой жизни и оставили не более чем бесконечные дебаты по логическим и метафизическим вопросам, связанным со свободой воли и совестью, долгом и заслугами.
Иногда говорят, что Кант разрешил этот спор между старыми отделами философии и новыми отраслями науки. И это урегулирование, как подразумевается, заключалось в том, что философ возлагал на себя своего рода полицейскую и патрульную функцию в содружестве наук. Он должен был следить за тем, чтобы границы соблюдались должным образом и чтобы каждая наука занималась строго своим делом. Для этого каждая отрасль философии должна была превратиться в отдел критики – изучения первых принципов в нескольких областях реальности или опыта – с целью получить отчетливое представление о том, что они собой представляют, и таким образом точно определить линии, на которых могут быть прочно и безопасно построены структуры более детальной науки. Этот план предлагал заманчивые направления для исследования и звучал неплохо. Но при дальнейшем размышлении возникает одна или две трудности, которые трудно преодолеть. Как это ни парадоксально, но нельзя правильно оценить мощность и диапазон фундаментов, не познакомившись с возведенными на них зданиями. Таким образом, вы оказываетесь вовлечены в круг: круг, который, вероятно, неизбежен, но который по этой причине хорошо бы распознать сразу. Затем – и это лишь другой способ сказать то же самое – невозможно провести жесткую границу между принципиальными предпосылками и выводами из деталей.
Нет такого места, на котором критика могла бы остановиться и, сделав свое дело хорошо, передать оставшуюся задачу догматической системе. Именно инстинктивное ощущение этого подтекста системы в том, что исповедуется только как критика, заставило престарелого Канта проигнорировать свои собственные предыдущие признания в том, что он еще не предложил никакой системы, а когда Фихте заявил, что он воздвигает ткань, для которой Кант подготовил почву, ответить встречным заявлением, что критика и есть система, что «занавес – это картина».
Гегелевская философия – это попытка соединить критику с системой и тем самым осуществить то, что Кант по крайней мере предвидел. Это система, которая самокритична и систематична только благодаря абсолютности своей критики. По выражению самого Гегеля, это имманентная и непрекращающаяся диалектика, которая от начала до конца не допускает никакого догматического покоя, но осуществляет описание Кантом века критики, в котором ничто, каким бы величественным и священным ни был его авторитет, не может просить об исключении из всеиспытывающего Эленхуса. С другой стороны, Гегель отказывается ограничивать философию и ее разветвления чем-либо, кроме тотальности. Он принимает в полном смысле это часто употребляемое выражение – единство знания. Логика становится всеобъемлющим исследованием «первых принципов» – принципов, которые регулируют физику и этику. Старые разделения между логикой и метафизикой, между индукцией и дедукцией, между теорией рассуждения и теорией знания, – разделения, которые те, кто наиболее часто использовал их, никогда не могли показать причину и цель – потому что они действительно выросли в разное время и путем «естественного отбора» через огромную массу происшествий: они заменены и слиты в одной непрерывной теории реального знания, рассматриваемого в его абстрактном или формальном аспекте, – организованной и известной реальности в ее лежащей в основе мыслительной системе. Но эти первые принципы были лишь абстракцией от полной реальности – реальности, которой обладает природа, объединенная разумом, – и они предполагают тотальность, из которой они выведены. Царство чистой мысли – лишь призрак Идеи, единства и реальности знания, и оно должно быть вновь обретено плотью и кровью. Логический мир – это (по кантовскому выражению) лишь возможность Природы и Разума. Он стоит на первом месте – потому что это система первых принципов: но эти первые принципы могли быть получены только философией, которая осознала значение ментального опыта, собранного путем интерпретации фактов природы.
Натурфилософия больше не является – согласно гегелевскому взгляду на нее – просто схемой математического обоснования. Это может быть ее первым шагом. Но ее сфера – это полное единство (а не просто совокупность) отраслей естественного знания, исследующих как неорганический, так и органический мир. При решении этой бесконечной проблемы философия, похоже, упирается в неприступное препятствие на пути своего развития. С каждым днем развитие специализации делает все более невозможным какой-либо всеобъемлющий или синоптический взгляд на всю совокупность наук. Несомненно, мы достаточно охотно говорим о науке. Но здесь, если вообще где-либо, мы можем сказать, что науки нет, а есть только науки. Всеобщая наука – это гордый вымысел или великолепный сон, по-разному рассказанный и истолкованный в соответствии с меняющимися интересами и склонностями ученого. Науки или те, кто их специально излагает, не знают ни единства, ни философии науки. Они довольствуются замечанием, что в наши дни это невозможно, и вычленяют недостатки в любых попытках в этом направлении, которые предпринимаются за пределами их поля зрения. К несчастью для этого утверждения, это дело под силу всем нам, и, более того, должно быть под силу. Если не как ученые, то как люди, как человеческие существа, мы должны собрать все воедино и составить некую общую оценку дрейфа развития, единства природы. Получить представление не только об общих методах и принципах наук, но и об их результатах и учениях, причем получить это не в виде множества фрагментов, а в систематическом единстве, – это в какой-то степени необходимо для всякой разумной жизни. Жизнь, не основанная на науке, не есть жизнь человека. Но он не найдет желаемого в учебниках специалиста, который вынужден относиться к своему предмету, как говорит Платон, «под давлением необходимости», и который не смеет смотреть на него в его качестве «влечения души к истине и формирования философского интеллекта, чтобы возвысить то, что мы сейчас неоправданно сдерживаем1». Если философ в этой провинции делает свою работу плохо, он может сослаться на новизну задачи, к которой он пришел, как первопроходец или даже архитектор. Он находит мало того, что может непосредственно использовать. Материалы были собраны и подготовлены для очень специальных целей; а великая цель науки – сделать человеческую жизнь выше, больше и счастливее – вообще не рассматривалась, разве что в ее более материалистических аспектах. Для философа высший интерес физических наук заключается в том, что человек также принадлежит к физической вселенной, или что разум и материя, как мы их знаем, являются (говоря языком мистера Спенсера) «одновременно антитетичными и неразделимыми». Он хочет найти место человека, но человека как разума в природе.
Если таким образом расширить рамки натурфилософии, сделав ее единством и более чем синтетической совокупностью нескольких физических наук, сделав ее целым, превосходящим сложение всех их фрагментов, то цель этики должна быть не менее углублена и расширена. Этика под таким названием Гегелю неизвестна. И для тех, кто не может распознать ничего, если оно не обозначено четко, естественно записать в свой актив порицание гегельянства за игнорирование или пренебрежение этическими исследованиями. Но если взять это слово в том широком смысле, который общепринятое употребление скорее оправдывает, чем принимает, то можно сказать, что вся философия разума – это философия морали. Ее предметом является моральный, а не физический аспект реальности: внутренняя и идеальная жизнь в противовес чисто внешним и реальным ее материалам: мир интеллекта и человечества. Она показывает человека на нескольких стадиях того процесса, посредством которого он выражает весь смысл природы или выполняет бремя той задачи, которая заложена в нем с самого начала. Он прослеживает шаги того роста, в ходе которого то, что было не более чем фрагментом природы – интеллектом, заключенным (как казалось) в одном куске материи, – приходит к осознанию истины о ней и о себе. Эта истина – его идеал и его обязанность: но она также – такова тайна его права на рождение – его идея и владение. Он, как и природная вселенная, является (как показала Логика) принципом объединения, организации, идеализации: и его история (в ее идеальной полноте) есть история процесса, посредством которого он, типичный человек, превращает фрагменты реальности (а такая простая реальность всегда должна быть набором фрагментов) в совершенное единство многогранного характера. Таким образом, философия разума, начиная с человека как чувствующего организма, средоточия, в котором вселенная получает свое первое смутное выражение через простое чувство, показывает, как он «возвышается над самим собой» и реализует то, что древние мыслители называли его родством с божественным.
В этом общем процессе освобождения и самореализации разума часть, специально названная «Мораль», является лишь одним, хотя и необходимым, этапом. По словам Порфирия и поздних платоников, существует четыре степени на пути к совершенству и самосовершенствованию. Во-первых, это карьера честности и житейского благоразумия, которая составляет долг гражданина. Во-вторых, прогресс в чистоте, который оставляет земные вещи позади и достигает ангельской высоты бесстрастной безмятежности. И третья ступень – божественная жизнь, которая с помощью интеллектуальной энергии обращена к созерцанию истины вещей. И наконец, на четвертой ступени разум, свободный и возвышенный в самоподдерживающейся мудрости, становится «образцом» добродетели и даже «отцом богов». Но даже в этом случае можно сказать, что человеческий разум является предметом сложной телеологии – области, управляемой многообразными Должностями, психологическими, эстетическими, социальными и религиозными. Урегулирование их притязаний не может быть целью любой науки, если регулирование означает обеспечение руководства на практике. Но цель такой телеологии – показать, что социальные требования и моральный долг в обычном понимании не исчерпывают диапазон обязательств – высшей этической необходимости. Однако вопрос о том, как это лучше всего сделать, представляет определенную сложность. Ведь рассматриваемые цели не укладываются полностью в последовательный порядок, и ни одна из них не вовлекает другие таким образом, чтобы уничтожить их независимость. Нельзя освободить психологию от ответственности, как если бы она стояла независимо от этики или религии, равно как и эстетические соображения не могут просто накладываться на моральные. Тем не менее, можно сказать, что порядок, которого придерживается Гегель, в целом вызывает меньше возражений, чем другие.
Г-н Герберт Спенсер, единственный английский философ, который хотя бы попытался создать систему философии, может быть сравнен с Гегелем в этом вопросе. Он также начинает с «Первых принципов» – работы, которая, как и гегелевская «Логика», начинается с представления философии как верховного арбитра между подчиненными принципами религии и науки, которые в ней являются «необходимыми коррелятами». Позитивная задача философии (с некоторой непоследовательностью или расплывчатостью) представлена в следующем месте как «унификация знания». Такая унификация должна сделать явным имплицитное единство известной реальности: ведь «каждая мысль включает в себя целую систему мыслей». И такую программу снова могла бы предложить Логика. Но, к сожалению, мистер Спенсер не считает нужным (и в этом его оправдывает Фрэнсис Бэкон) подниматься на изнурительную, но необходимую гору чистилища, которая известна нам как Логика. С наивным реализмом он опирается на Причину и Силу, и прежде всего на Силу, эту «Предельную из Предельных», которая, как ни удивительно, является обитательницей как известного, так и непознанного мира. В известном мире этот Предел предстает в двух формах – материи и движения, и проблема науки и философии состоит в том, чтобы детально и в общих чертах сформулировать закон их непрерывного перераспределения, отделения движения от материи и включения движения в материю.
Об этом процессе, не имеющем ни начала, ни конца, – ритме порождения и разложения, притяжения и отталкивания – можно сказать, что это, собственно, не первый принцип всего знания, а общая или фундаментальная часть натурфилософии, к которой далее переходит г-н Спенсер. Такую философию, однако, он дает лишь частично: в виде биологии, занимающейся органической (а на дальнейшей стадии и под другими названиями – супраорганической) жизнью. И то, что философия природы должна принять такую форму и нести в себе как Первые принципы, так и более поздние части системы, как части философии эволюции, – это то, чего мы должны были ожидать, исходя из современных интересов науки2. Даже односторонняя попытка придать умозрительное единство тем исследованиям, которые по причинам, о которых редко спрашивает научный специалист, получили название биологических, тем не менее заслуживает внимания как признание необходимости Natur-philosophie, умозрительной науки о природе.
Третья часть гегелевской системы соответствует тому, что в синтетической философии известно как психология, этика и социология. И здесь г-н Спенсер признает, что появилось нечто новое. Психология «уникальна» как наука: это «двойная наука», и в целом она совершенно sui generis. Возможно, все эти эпитеты не должны, mutatis mutandis, применяться также к этике и социологии, если они должны выполнять свою полную работу, он не говорит. В чем состоит эта двойственность, он даже затрудняется показать. Поскольку его фундаментальная философия не идет в этом вопросе дальше констатации некоторых пар словесных антитез и не имеет чувства единства, кроме как в несовершенной форме «отношения2» между двумя вещами, которые «антитетичны и неразделимы», он озадачен такими фразами, как «в» и «вне» сознания, и спотыкается о двусмысленное использование «внутреннего» для обозначения как психического (или непространственного) в целом, так и локально субкутикулярного в частности. Тем не менее, он доходит до того, что видит, что закон сознания состоит в том, что в нем ни чувства, ни отношения не имеют независимого существования, и что единица ума не начинается до тех пор, пока то, что он называет двумя чувствами, не станет одним. Фразеология может быть ошибочной, но в ней прослеживается понимание априорности. К сожалению, об этом, видимо, забыли, и язык слишком часто возвращается к привычке того, что он называет «объективными», то есть чисто физическими, науками.
Концепция психологии г-на Спенсера ограничивает ее более общей физикой разума. За ее более конкретной жизнью он отсылает нас к социологии. Но его Социология еще не закончена: и, судя по плану ее зарождения и несовершенному представлению о целях и средствах ее исследования, вряд ли допускает завершение в каком-либо систематическом смысле. К этой незавершенности, несомненно, относится его чрезмерное увлечение историческими или анекдотическими деталями – деталями, однако, слишком оторванными от их социального контекста, и в целом его тенденция пренебрегать нормальной и центральной теорией ради случайных и периферийных фактов. Здесь также прослеживается слабость «Первых принципов» и любовь к броским словам, которая сопровождается заблуждением, что иллюстрация – это доказательство. Прежде всего, очевидно, что великий факт религии нависает над мистером Спенсером с притяжением нерешенной и неприемлемой проблемы. Он не может согласовать религиозные идеи людей с их научными, эстетическими и моральными доктринами и лишь выдает свое ощущение высокой значимости первых, ставя их на передний план исследования, как обусловленные неопытностью и ограниченностью так называемого первобытного человека. Вряд ли это адекватное признание религиозного принципа: и этот недостаток будет серьезно ощущаться, если он когда-нибудь приступит к реализации дальнейшего этапа своего проспекта, посвященного «росту и соотношению языка, знания, морали и эстетики».
2. Разум и мораль
Ментальная философия – если мы так обозначим то, что можно также назвать духовной философией, или философией духа, – может показаться английскому читателю гораздо более узкой, чем она есть на самом деле. Философия человеческого разума – если мы обратимся к английским образцам – подразумевает не более чем психологию, и, вероятно, то, что называется индуктивной психологией. Но в понимании Гегеля она охватывает неожиданно широкий круг тем, весь диапазон от природы до духа. Помимо субъективного разума, которым, на первый взгляд, исчерпываются темы психологии, он переходит к разуму объективному и, наконец, к абсолютному разуму. И такие сочетания слов могут показаться либо самопротиворечивыми, либо бессмысленными.
В первом разделе речь идет о предмете, который обычно называют психологией. Этот термин действительно используется Гегелем в ограниченном смысле для обозначения последнего из трех подразделов в обсуждении субъективного разума. Разум, который является предметом собственно психологии, не может быть принят в качестве готового объекта, или данности. Я, самосознание, разумный и волевой агент, если это и является правом человека по рождению, то это право он должен реализовать сам, заслужить и сделать своим. Проследить шаги, по которым разум в его более строгом понимании, как воля и интеллект, возникает из общей животной чувствительности, которая является венцом органической жизни и конечной проблемой биологии, – это работа двух предварительных подразделов: первый называется «Антропология», второй – «Феноменология разума».
Предметом антропологии, как ее понимает Гегель, является душа – сырой материал сознания, основа всей высшей психической жизни. Это пограничная область, где между Природой и Разумом еще идет спор: это область чувств, где чувствительность еще не дифференцирована на интеллект. Душа и тело здесь, как говорится, в общении: внутренняя жизнь еще несовершенно отделена от своего естественного со-физического окружения. Все еще единая с природой, она подчиняется природным влияниям и природным превратностям: она еще не хозяин самой себя, а полупассивное вместилище чужой жизни, общей жизненной силы, общей души, еще не до конца дифференцированной в индивидуальность. Но оно пробуждается к самодеятельности: оно поднимается к сознанию, – чтобы отличить себя, как сознающего и осознающего, от фактов жизни и чувств, о которых оно знает.