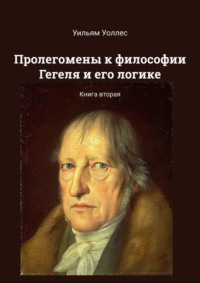Полная версия
«Философия разума». Гегеля. Книга четвертая
Искусство, согласно Гегелю, – это первое из трех проявлений Абсолютного разума. Но ключ к целому можно найти в Религии15: или Религия – это общее описание той фазы разума, которая обрела покой в полноте достижений и уже не является борьбой и войной, но плодом. «Все народы убеждены, – говорит он16, – что в религиозном сознании они хранят свою истину; и они всегда считали религию своим достоинством и воскресеньем своей жизни. Все, что возбуждает наши сомнения и тревоги, все горе и беспокойство, все, чем может привлечь нас ничтожная сфера конечности, мы оставляем на отмели времени: И как путешественник на самой высокой вершине горного хребта, удаленный от всех отчетливых видов земной поверхности, спокойно позволяет своему зрению пренебречь всеми ограничениями ландшафта и мира; так и в этой чистой области веры человек, вознесенный над жесткой и непреклонной реальностью, видит ее своим мысленным взором, отраженным в лучах мысленного солнца, в образе, где ее распри, ее свет и тени смягчаются до вечного покоя. В этой области разума текут воды забвения, из которых Психея пьет и в которых она топит всю свою боль: и тьма этой жизни здесь смягчается до образа мечты и превращается в простую декорацию для великолепия Вечного.»
Если мы возьмем Религию в таком расширенном смысле, то обнаружим, что это чувство, видение, вера, уверенность в вечном в изменчивом, в бесконечном в конечном, в реальности в видимости, в истине в заблуждении. Это свобода от отвлечений и забот, связанных с конкретными деталями жизни; это чувство постоянства, покоя, уверенности, завершающее, сглаживающее и поглощающее переменчивость, беспокойство, сомнения реальной жизни. Такая победа над осязаемой реальностью, несомненно, имеет свое происхождение – свою эмбриологию – в тех фазах сознания, которые уже обсуждались в первом разделе. Религия будет сильно различаться в зависимости от того, в каком национальном настроении и общественном развитии она возникнет. Но каковы бы ни были особенности ее первоначального пеленания, ее кардинальной нотой будет чувство зависимости и независимости от чего-то более постоянного, более величественного, более надежного и стабильного, чем видимая и изменчивая природа и человек, – чего-то, что, будь то Бог или дьявол, или оба в одном, держит ключи жизни и смерти, благополучия и горя, и держит их с какого-то безопасного места над низшими царствами перемен. Благодаря этому центральному существу внешнее и внутреннее, прошлое, настоящее и грядущее, становятся единым целым. И, как уже указывалось, Религия, возникающая, как она есть, из социального человека, из разума этического, сохранит следы двух очагов в обществе: индивидуальной субъективности и объективного сообщества. Но сохранит их только как следы, которые все еще проявляются в реально предусмотренном примирении. Ведь именно это религия делает с моралью. Она поднимает на ступень выше единство или, скорее, сочетание, достигнутое в государстве: это более полная гармония личности и коллектива. Нравственное сознание опирается в своей определенности и непоколебимости на религиозное.
Но религия (понимаемая таким образом как вера в вечную и все объясняющую реальность) поначалу выступает под видом искусства. Поэма и пирамида, храм-образ и картина, драма и сказочная легенда – все это религия: но это, пожалуй, религия как искусство. А это значит, что в них вечное представлено под чувственными образами, работой художника, причем в бренном материале ограниченного диапазона. Однако даже резчики давно минувших дней, чьи работы были найдены на плоскогорьях Оверни, знали, что они придают окружающей их бренной жизни квазибессмертие: а мифотворец дикарского племени возводил происшествие одного сезона в вечную силу любви и страха. Циник может напомнить нам, что с самой лучшей картины художника, с готовностью
«Мы обращаемся к той девушке, что бродит через реку».
И все же в ответ цинику можно сказать, что, если бы не глубоко запечатленный урок художника, наш взгляд привлек бы лишь грубый инстинкт. Художник, поэт, музыкант открывают нам смысл, истину, реальность мира: они учат нас, они помогают нам, отсталым младшим братьям, видеть, слышать, чувствовать то, что наши грубые чувства не смогли обнаружить. Они снова и снова совершают чудо хлеба и рыбы: из обычных, ограниченных вещей каждого дня они создают хлеб жизни, которым продолжают питаться поколения.
Но если искусство воплощает для нас невидимое и вечное, то оно воплощает его в камне, цвете, тоне и слове, а они сами по себе – лишь мертвая материя. Для неискушенного глаза и вкуса самая прекрасная картинная галерея – лишь утомление: когда национальная жизнь улетучилась, священная книга и изображение – лишь идолы и загадки. «Статуи – это трупы, из которых ушла живительная душа, а гимны – слова, из которых ушла вера: столы богов лишены духовного мяса и питья, а игры и пиры больше не дают разуму радостного единения с бытием сущего. Произведениям Музы не хватает той интеллектуальной силы, которая познала себя сильной и настоящей, сокрушая богов и людей в своей винодельне. Теперь (в этот железный век) они для нас то, чем они являются, – справедливыми плодами, сорванными с дерева и врученными нам благосклонной судьбой. Но этот дар подобен плодам, которые преподносит девушка на картине: она не рассказывает о реальной жизни их существования, ни о дереве, которое их принесло, ни о земле и стихиях, которые вошли в их состав, ни о климате, который формировал их качество, ни о смене времен года, которая управляла процессом их роста. Подобно ей, Судьба, даря нам произведения античного искусства, дает нам не их мир, не весну и лето этической жизни, в которой они расцвели и созрели, а лишь воспоминание и предположение об этой реальности. Поэтому наш акт наслаждения ими не является Божественным служением: если бы это было так, наш разум достиг бы совершенной и удовлетворяющей его истины. Все, что мы делаем, – это простой экстернализм, который счищает с этих плодов капли дождя, пылинки, и который вместо внутренних элементов нравственной актуальности, создавших и вдохновивших их, пытается из мертвых элементов их внешней реальности, таких как язык и исторические аллюзии, воздвигнуть утомительную массу строительных лесов, не для того, чтобы вжиться в них, а только для того, чтобы составить представление о них в нашем сознании. Но как девушка, предлагающая сорванные плоды, больше и благороднее природной стихии со всеми ее деталями дерева, воздуха, света и пр. которая их принесла, потому что она собирает все это вместе, более благородным образом, во взгляде сознательного глаза и жесте, который их предлагает; так и дух судьбы, который предлагает нам эти произведения искусства, больше, чем этическая жизнь и действительность древних людей: ведь это интериоризация того разума, который в них был еще самоотчужденным и самоотчужденным: это дух трагической судьбы, судьбы, которая собирает всех этих индивидуализированных богов и атрибутов сущности в единый Пантеон. И этот храм всех богов есть Разум, осознающий себя как разум17».
Религия вступает в свою более адекватную форму, когда она перестает выступать в обличье искусства и осознает, что Царство Божие находится внутри, что истину нужно чувствовать, вечное открывать изнутри, святое постигать верой18, а не внешним зрением. Ни глаз не видел, ни ухо не слышало вещей Божьих. Их нельзя представить или обрисовать: они приходят только в свидетельстве духа. Сама человеческая душа – единственный достойный храм Всевышнего, которого не могут вместить небеса и небеса небес. Здесь Бог воистину сошел, чтобы обитать с людьми; и Сын Человеческий, подхваченный излиянием Духа, может со всей уверенностью и смирением утверждать, что он божественен. Здесь, очевидно, достигается Абсолютный Разум: душа не знает ни ограничений, ни борьбы: во времени она уже вечна. И все же, по мнению Гегеля, есть недостаток – не в сущности и не в материи, а в том, как и каким образом обычное религиозное сознание представляет себе или изображает то объединение, которое оно чувствует и переживает.
«В религии это объединение конечного Бытия с Я достигается имплицитно. Но религиозное сознание, если оно и имеет эту символическую идею своего примирения, все же имеет ее в качестве простого символа или представления. Оно достигает удовлетворения, присоединяя к своей чистой негативности, и это внешне, позитивное обозначение своего единства с конечным Существом: его удовлетворение остается, таким образом, запятнанным антитезой другого мира. Поэтому его собственное примирение представляется его сознанию чем-то далеким, чем-то далеким в будущем: точно так же, как примирение, совершенное другим Я, представляется далеким в прошлом. Единый Богочеловек имел лишь неявного отца и только реальную мать; так и универсальный Богочеловек, сообщество, имеет своим отцом дело и знание, а матерью – только вечную Любовь, которую он только чувствует, но не созерцает в своем сознании как реальный непосредственный объект. Поэтому ее примирение находится в ее сердце, но все еще расходится с ее сознанием, и ее актуальность все еще имеет изъян. В его поле сознания место неявной реальности или стороны чистого опосредования занимает примирение, которое лежит далеко позади: место реально присутствующего, или стороны непосредственности и существования, занимает мир, которому еще предстоит дождаться своего преображения в славу. Неявно, без сомнения, мир примиряется с вечным Бытием; а это Бытие, как известно, уже не смотрит на объект как на чуждый ему, но в своей любви видит его подобным себе. Но для самосознания это непосредственное присутствие еще не представлено в полном свете разума. Соответственно, в своем непосредственном сознании дух общины отделен от религиозного: ведь хотя религиозное сознание заявляет, что они неявно не разделены, эта неявность не возведена в реальность и еще не выросла до абсолютной самоочевидности19».
Таким образом, религия, которая, впервые появившись в поклонении искусству, еще не осознала свою сущностную внутренность или духовность, теперь должна преодолеть антитезу, в которой ее (религиозное) сознание стоит по отношению к светскому. Ибо специфически религиозный тип сознания отличается безразличием и даже враждебностью, более или менее завуалированной, к искусству, к морали и гражданскому государству, к науке и природе. Крепкий в уверенности веры или в своем несомненном уповании на Бога, он возмущается слишком любопытными расспросами о центральной тайне своего союза и в своем более отчетливом сознании основывает веру на свидетельствах факта, который, однако, он в том же дыхании объявляет уникальным и чудесным, центральным событием веков, указывающим в своей референции на первые дни человечества, а в будущем – на завершение дела земной жизни. Философия, согласно гегелевской концепции, лишь делает вывод, вытекающий из предпосылок религии: она дополняет и округляет до связности религиозные следствия. Уникальные события, произошедшие в Иудее почти девятнадцать веков назад, являются для нее также первым шагом в новом откровении об отношении человека к Богу: но, признавая трансцендентный интерес той эпохи, она делает главный акцент на открывшейся тогда постоянной истине и настаивает на обязанности провести пробудившийся в ней принцип во всей глубине и широте его экспликации. Ее задача – ее высшая задача – состоит в том, чтобы объяснить религию. Но сделать это – значит показать, что религия – не экзотика и не просто откровение из внешнего источника. Она должна показать, что религия – это истина, полная реальность разума, который жил в искусстве, основывал государство и стремился быть послушным и праведным: истина, венчающая все научные знания, все человеческие привязанности, все светское сознание. Ее урок в конечном счете заключается в том, что нет ничего по сути обыденного или нечистого: святое не отделено от истинного, доброго и прекрасного. Развернутая таким образом религия спускается из своего абстрактного или «умопостигаемого» мира, в который она удалилась от искусства и науки, а также от дел обычной жизни. Ее Бог – как истинный Бог – не только из мертвых, но и из живых: не далекое высшее и конечное Существо, но и человек среди людей. Философия, таким образом, должна разрушить среднюю перегородку жизни, ограду между светским и священным. Это всего лишь религия, достигшая своей зрелости, ставшая своим домом в мире и больше не чужая и не диковинная. Религия провозгласила в своем сердце и в своей вере, что земля принадлежит Господу и что день ото дня проявляется божественный промысел. Но едва сердце неверия, маловерия произнесло это слово, как оно забыло о своей уверенности и склонилось к убеждению, что князь мира сего – Дух Зла. Настроение Теодицеи – это также, но с другой стороны, настроение философии. Он утверждает пути Провидения: но его Провидение – это не Бог моралиста, не идеал художника, вернее, не только они, но и Закон природы, и даже больше. Его цель – единство истории. Эти слова иногда легкомысленно употребляют в том смысле, что события идут одним непрерывным потоком, и нет никаких обрывов, никаких конечных начал, отделяющих век от века. Но Единство истории в полном смысле слова выходит за рамки истории: это история, «сведенная» с просторов времени к вечному настоящему: ее тысяча лет превратилась в один день, – превратилась даже в миг. Тема единства истории – во всей глубине единства и во всем объеме истории – является темой гегелевской философии. В ней прослеживается процесс, в ходе которого Разум должен стать всеохватывающим, самодостаточным, единым с Вечной реальностью.
«Этот процесс самореализации разума, – говорит Гегель в заключительной части „Феноменологии“, – представляет собой затянувшееся движение и череду разумов, галерею образов, каждый из которых, наделенный полным богатством разума, кажется затянувшимся только потому, что „Я“ должно проникнуть в это богатство и переварить его в своей субстанции. Поскольку его совершенство состоит в том, чтобы полностью познать то, что оно есть (свою субстанцию), это познание является его самоинволюцией, в которой оно оставляет свое внешнее существование и отдает свою форму воспоминаниям. Таким образом, погружаясь в себя, оно погружается в ночь своего самосознания: но в этой ночи сохраняется его исчезнувшее бытие, и это бытие, сохраненное таким образом в идее, – старое, но теперь вновь рожденное духом, – есть новая сфера бытия, новый мир, новая фаза разума. В этой новой фазе ему снова приходится начинать заново и с самого начала, снова взращивать себя до зрелости из собственных ресурсов, как если бы для него все предшествующее было потеряно, и он ничему не научился из опыта предыдущих разумов. И все же это воспоминание не является сохранением опыта: это квинтэссенция и, по сути, высшая форма субстанции. Поэтому если этот новый разум, казалось бы, рассчитывает только на свои собственные ресурсы и начинает совершенно свежий и пустой путь, то в то же время он начинает его с более высокого уровня. Интеллектуальное и духовное царство, построенное таким образом в реальности, образует преемственность во времени, где один разум освобождает другой от своей вахты, и каждый принимает царство мира от предыдущего. Цель этой преемственности – раскрыть глубину, и эта глубина – абсолютное постижение разума: следовательно, это раскрытие должно возвысить его глубину, раздвинуть его вширь, отрицая тем самым это самозаключенное Я, в котором оно самоотчуждается или сводится к сущности. Но это также и его время: течение времени показывает, что это лишение само по себе лишено собственности, и, таким образом, в своем расширении оно не меньше, чем в своей глубине, самости. Путь к этой цели – абсолютной самоочевидности, или разуму, знающему себя как разум, – лежит через интериоризацию разумов, какими они являются сами по себе и как они осуществляют организацию своего царства. Их сохранение – рассматриваемое со стороны свободной и, по-видимому, случайной последовательности фактов – есть история: со стороны их постигнутой организации, опять-таки, это наука ментальной феноменологии: оба вместе, постигнутая история, образуют одновременно воспоминание и могильный двор абсолютного Разума, актуальность, истинность и определенность его трона, без которого он был безжизнен и одинок».
Таков в кратких чертах – с наибольшим акцентом на тех пунктах, где Гегель был наиболее краток, – диапазон философии разума. Ее цель – постичь, а не объяснить: собрать в разумное единство, а не анализировать на ряд элементов. Для нее психология – это не анализ или описание психических явлений, законов ассоциации, роста определенных сил и идей, а «постигнутая история» формирования субъективного разума, разумного, чувствующего, волевого «я» или «я». Ибо Этика – это часть и только часть великой схемы или системы саморазвития, но продолжающая в большей конкретике нормальную одаренность индивидуального ума и подготавливающая почву, на которой религия может быть наиболее эффективно культивирована. И наконец, сама религия, освобожденная от своей изоляции и потусторонней сакральности, оказывается лишь венцом жизни, самым зрелым ростом актуальности, и это доказывает философия, в то время как становится ясно, что религия – основа философии, или что философия может зайти так далеко, как позволяет религиозная позиция. Иерархия, если ее можно так назвать, духовных сил такова, что ни одна из них не может стоять особняком или претендовать на абстрактное и независимое главенство. Истина яизма – это истина альтруизма: истинно нравственное – это истинно религиозное: и каждое из них не является тем, чем оно исповедует себя, если оно не предвосхищает последующее и не включает в себя предыдущее.
4. Разум или дух
Можно, однако, сказать, что для такого круга вопросов термин «разум» удручающе неадекватен и банален, и что более подходящим вариантом названия было бы «Философия духа». Можно признать, что Разум – это не все, что можно было бы пожелать. Но и Дух не безупречен. К тому же, можно добавить, что гегелевский термин «Geist» должен быть неоправданно натянут, чтобы охватить столь широкую область. Он служит – и, несомненно, должен был служить – знаком соответствия его системы религии, которая видит в Боге не потустороннее существо, а само наше «я» и разум, и поклоняется ему в духе и истине. И если употребление такого слова способно смягчить «древние разногласия» между религиозным и философским настроением, было бы, пожалуй, просто нечестно отказываться от знака соответствия и компромисса. Но как бы ни обстояли дела в немецком языке, – а даже там новое вино было опасно для старой кожи, – несомненно, что для среднего английского слуха слово Spiritual перенесет нас за среднюю черту, в надлежащую страну религиозности. А сделать это, как мы видели, значит погрешить против центральной идеи: идеи о том, что религия – одна кровь со всей психической семьей, хотя и самая благодатно полная из всех сестер. И все же, какое бы слово ни подобрать, философия Гегеля, подобно августейшей даме, явившейся в видении заключенному Боэцию, имеет на своем одеянии знак, «означающий земную жизнь», а также знак, означающий «правый закон небес»; если ее правая рука держит «книгу справедливости всемогущего царя», то скипетр в ее левой – «телесный суд над грехом20».
В самом деле, нет достаточных оснований для того, чтобы отказаться от термина «разум». Если индуктивная философия человеческого разума – возможно, на изысканный вкус – сделала это слово неаппетитным, это не повод отказываться наделять его всем богатством души и сердца, интеллекта и воли. mens aeterna, которая, если верить Тациту, выражала древнееврейскую концепцию духовности Бога, и Νοῦς, который аристотелизм ставит во главу угла в душе, не являются простым или абстрактным интеллектом, который поздние привычки абстракции сделали из них.
.Если читатель примет этот термин (за неимением лучшего) в самом широком смысле, мы можем укрыться под примером Вордсворта. Его тема – как он описывает ее в «Recluse» – «Разум и человек»: его «голос провозглашает, как изысканно приспособлен индивидуальный разум (И прогрессивные силы, возможно, не меньше, чем у всего вида) к внешнему миру; – и как изысканно внешний мир тоже приспособлен к разуму; и творение (более низким именем его назвать нельзя), которое они, смешавшись, могут совершить». В стихотворении, которое раскрывает этот «высокий аргумент», говорится «Об истине, о величии, о красоте, о любви и надежде, о меланхоличном страхе, покоренном верой». И поэт добавляет: «Когда мы заглядываем в наш разум, в разум человека – мое пристанище и главная область моей песни; Красота – живое присутствие земли, превосходящее самые прекрасные идеальные формы… ждет моих шагов». Реальность, должным образом увиденная в духовном видении «That inspires The human Soul of universal earth Dreaming of things to come», будет большей славой, чем идеалы воображаемого вымысла: «Ибо проницательный интеллект человека, когда он соединится с этой прекрасной вселенной в любви и святой страсти, найдет их простым продуктом обычного дня». Если Вордсворт, повторяя великую концепцию Фрэнсиса Бэкона, «в одиноком покое воспевает супружеский стих об этом великом завершении», возможно, поэт и эссеист поможет нам вместе с Гегелем оценить разум – разум человека – по его наивысшей ценности.
Эссе II. Цели и методы психологии
Не будет лишним сказать, что, по общему мнению, психология пока еще едва ли достигла того, что Кант назвал устойчивой походкой науки – sichere Gang der Wissenschaft. Утверждать это, конечно, не значит ставить под сомнение важность проблем или внутреннюю ценность результатов исследований, которые проводились под этим названием. Мы лишь констатируем тот очевидный факт, что под общим названием «психологические» в разное время скрывался целый ряд исследований, несколько отличающихся друг от друга по тону, методу и направленности, и что работа по их ориентации до сих пор остается незавершенной. Такая судьба представляется неизбежной, когда название придумывается скорее для обозначения неисследованной территории, чем для описания уже свершившегося факта.
1. Психология как наука и как часть философии
De Anima Аристотеля, собравшая в себе труды Платона и его предшественников, можно сказать, заложила фундамент психологии. Но даже в ней мы уже видим, что за овладение ею борются два элемента или аспекта: два элемента, не связанных между собой и не независимых, но с трудом удерживаемых в единстве. С одной стороны, существует концепция Души как части Природы, как уровня существования в физической или природной вселенной, – во вселенной вещей, которые подвержены росту и изменениям, которые никогда не бывают полностью «без материи», и всегда прикреплены к телу или присутствуют в нем. С этой точки зрения Аристотель настаивал на том, что здравая и реалистичная психология должна, например, в своем определении страсти отводить главное место ее физическому (или материальному) выражению, а не ее психической форме или значению. Она должна помнить, говорил он, что явления или «случайности» – это то, что действительно проливает свет на природу или «субстанцию» души. С другой стороны, есть два момента, которые необходимо рассмотреть. Прежде всего, следует отметить, что концепция Души как таковой, как единства и общей характеристики, будет определяющей для феноменов или «случайностей», т.е. определит, что мы должны наблюдать и искать, и как мы должны описывать наши наблюдения. И под концепцией Души подразумевается не душа, как вещь или агент (субъект), который имеет свойства, прикрепленные к нему; но душа, как родовая черта, универсальная, которая ставится как печать на все, что претендует на психическое. Другими словами, Душа едина, не как отдельная вещь, противопоставленная своим атрибутам, деятельности или упражнениям силы (такая единая вещь, как покажет логика, является метафизической фикцией); но как единство формы и характера, всеобъемлющая и идентичная черта, которая присутствует во всех ее проявлениях и упражнениях. Но есть и второе соображение. Аристотель задается вопросом, можно ли с полной и строгой точностью отнести душу к категории природных объектов. В ней или из нее, возможно, есть нечто, и нечто существенное для нее, что принадлежит к порядку вечного и самоактивного: нечто, что является «формой» и «энергией», совершенно незатронутой и отдельной от «материи». Как это связано с царством тленного и изменчивого – проблема, в отношении которой Аристотель часто (и с некоторыми основаниями) считался неясным, если даже не непоследовательным21.
В этих несовпадающих элементах, которые выходят на первый план в трактовке Аристотеля, мы видим радикальное различие концепций и целей в отношении психологии. Сам он делает многое, чтобы не упустить их обоих из виду. Но очевидно, что уже здесь мы имеем контраст между чисто физической или (в более узком смысле) «научной» психологией, эмпирической и реалистической в трактовке, и более философской – той, которую в некоторых кругах назвали бы спекулятивной или метафизической – концепцией проблемы. Аристотель также противопоставляет популярную, или поверхностную, и точную, или аналитическую, психологию. Первая может быть полезной, например, при решении вопросов практической этики и воспитания: вторая представляет более строго научный интерес. Оба эти различия – между спекулятивной и эмпирической, а также между научной и популярной – влияют на последующую историю исследования. Под психологией иногда понимают результаты случайных наблюдений за нашим собственным сознанием с помощью так называемой интроспекции и интерпретации того, что мы можем наблюдать у других. В первую очередь такие наблюдения ведутся под руководством различий или точек зрения, предлагаемых общеупотребительными названиями. Мы опрашиваем свое собственное сознание на предмет того, какие факты или отношения фактов соответствуют терминам нашего национального языка. Или мы пытаемся – что на самом деле является неисчерпаемым поиском – получить четкие разделения между ними и ясные определения. Подобные исследования, которые начинаются с популярных различий, далеко не всегда соответствуют науке: исследователь обнаружит, что случайные и существенные свойства приводятся в одной и той же горстке выводов. Тем не менее, в этих попытках прояснить наши мысли всегда есть большая польза: для всех исследований необходимо, чтобы все предполагаемые или сообщаемые факты разума были осознаны и воспроизведены в нашем собственном ментальном опыте. И это особенно касается психологии, потому что здесь мы не можем получить объект вне нас, мы не можем получить или сделать схему, и если мы не придадим ему реальность, переконструировав его, – переспросив наш собственный опыт, – наше знание о нем будет лишь деревянным и механическим. И термин «интроспекция» не стоит воспринимать слишком серьезно: он означает гораздо больше, чем пассивное наблюдение за внутренней драмой; его вполне можно описать как ментальную проекцию, представляющую то, что находится внутри, и таким образом, как бы скрыто и вовлечено, перед собой в поле ментального зрения. Здесь, как и всегда, важно убрать себя с пути наблюдаемого объекта и встать, образно говоря, по одну сторону.