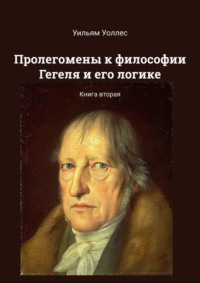Полная версия
«Философия разума». Гегеля. Книга четвертая
«Человек психолога, – говорит Гербарт39, – это социальный и цивилизованный человек, который стоит на вершине всей истории, через которую прошел его род. В нем зримо сочетается вся множественность элементов, которые под именем психических способностей считаются универсальным наследием человечества. Были ли они изначально объединены, были ли они изначально множественными – это вопрос, о котором факты умалчивают. Дикарь и новорожденный дают нам гораздо меньше поводов для восхищения диапазоном их разума, чем более благородные животные. Но психологи выходят из этого затруднения, необоснованно полагая, что все высшие виды умственной деятельности потенциально существуют у детей и дикарей – хотя и не у животных – в виде рудиментарной предрасположенности или психической одаренности. О таком зарождающемся интеллекте, зарождающемся разуме и зарождающемся моральном чувстве они находят узнаваемые следы в тех скудных сходствах, которые поведение ребенка или дикаря обнаруживает с поведением цивилизованного человека. Мы не можем не отметить, что в своих описаниях они имеют дело с особым состоянием человека, которое, отнюдь не будучи точно определенным, просто следует общему впечатлению, произведенному на нас теми существами, которых мы называем цивилизованными. Это общее впечатление неизбежно характеризуется крайне неустойчивым характером. Ибо не существует общих фактов: подлинные психологические документы лежат в сиюминутных состояниях отдельных людей, а от них до высоты универсальной концепции человека вообще – неизмеримо долгий путь».
И все же человек в целом, человек как человек и, следовательно, как разум, концепция человека, нормальный и идеальный человек, полная и адекватная Идея человека – это истинная конечная точка психологического процесса; и каковы бы ни были трудности на этом пути, это единственная правильная цель науки. Только она должна быть построена, сконструирована, эволюционирована, развита, а не принята за данность народного воображения. Нам нужна концепция, конкретная и реальная, человека и разума, в которой каждому из элементов, которые в нескольких примерах, открытых для детального наблюдения, представлены с несправедливым или преувеличенным вниманием, будет отведено свое место. Дикарь и ребенок не должны быть оставлены в стороне как не вносящие свой вклад в формирование идеала: добродетели здесь не важнее пороков и, конечно, не могут быть столь информативны: даже безумец и идиот показывают нам, что такое человеческий интеллект и что от него требуется: животные также находятся в поле зрения психологии. Мужчина не является ее театром, исключая женщину; если она запишет результаты интроспекции Я, то найдет обширные и богатые карьеры в различных способах, в которых индивид идентифицирует себя с другими как Мы. И даже социальный и цивилизованный человек получает свое обозначение, как обычно, a potiori. Он более цивилизованный и социальный, чем другие: возможно, скорее более цивилизованный, чем нет. Но всегда, в какой-то мере, он в то же время не социален или антисоциален и нецивилизован. Каждая единица в цивилизационном обществе представляется стороннему наблюдателю – а иногда и самому себе – некой странностью или неподвижностью, отблеском иррациональности, который показывает, что он не обладает полным здравомыслием или чистым и подвижным интеллектом. Он не до конца избавился от дикости, и меньше всего, говорит циник, в отношениях с противоположным полом. Даже в могилу он уносит с собой крупицы безрассудства и мелочности детства. И редко, если вообще можно сказать о нем, что он полностью избавился от обезьяны и тигра.
Но это лишь один из способов взглянуть на дело – и тот, который, возможно, больше подходит патологоанатому и цинику, чем психологу. Каждая из этих стадий психического развития, даже если это развитие явно можно описать как дегенерацию, имеет что-то, что, будучи должным образом отрегулированным, занимает свое место и выполняет свою функцию в теории нормально завершенного человеческого разума. Животное, дикарь и ребенок – каждый из них играет свою роль. Это искаженное, одностороннее и поверхностное продвижение в социализации, которое отрывает цивилизованное существо от естественного ствола его предков, от большой свободы, безмерной бесчувственности, детскости его первого сословия. В мужчине, которому совершенно не хватает индивидуализирующего реализма и нежности женщины, тоже есть что-то недостаточное, как и в женщине, которая не может проявить ни понимания взглядов, ни отваги, ни предприимчивости. Даже патологические состояния психики не являются простыми аномалиями и вырождениями. Природа, пожалуй, не знает дегенераций, а только окольные пути и хитросплетения в процессе развития. Тем более нельзя игнорировать огромность и нестандартность гения. Для философского ума все это – вопрос степени и пропорции, хотя часто пропорция кажется превышающей масштаб привычных нам знаменателей. Если элемент скрыт или затихает (при аресте), это не показатель его абсолютного количества: «мы не знаем, что сопротивляется». Давайте же, во что бы то ни стало, гордо держаться за нашу счастливую посредственность способностей и не допускать безумия или идиотизма, с одной стороны, и гениальности или героизма – с другой. Но внимательный наблюдатель все же заметит, как тонко выверены и причудливо сочетаются ступени, соединяющие столь ужасающе несопоставимые крайности. Только вульгарное невежество отворачивается с враждебностью или презрением от имбецила и ненормального, и только еще более вульгарный сциентизм видит в гении и герое лишь отклонение от столь ценимого им среднего. Криминалистическая антропология, или психология преступника, может быть, и потворствует неистовому преувеличению той обреченности, которую природа и наследственность возлагают на плод чрева еще до его появления на свет: но они, по крайней мере, служат для дискредитации свободного и легкого допущения абстрактного усреднителя и показывают, как мало наказания непреклонного закона отвечают требованиям социального благополучия.
И все же, если психология готова учиться во всех этих и других областях человеческого бытия, она должна помнить, что, выйдя за пределы узкого диапазона, в котором интерпретации символов и выражений стали привычными, она постоянно рискует ошибиться в неизбежной попытке перевести наблюдения в теорию. Счастливая середина между слишком большим вниманием к ощутимым различиям и поспешным переходом к схожей интерпретации схожих знаков – редчайший дар. Или, возможно, правильнее было бы сказать, что это самое последнее и самое труднодостижимое приобретение. Научиться наблюдать – наблюдать с умом – не так уж и мало. Для этого существуют правила – как общие, так и, прежде всего, в каждом специальном отделе. Но, как и все «главные предпосылки», на практике все зависит от силы суждения, такта, умения, «дара» их применять. Они работают не как простые правила, которые нужно заучивать наизусть, а как принципы, усвоенные в качестве составных частей умственной жизни: правила, которые служат лишь сжатыми напоминаниями и намеками на привычки мышления и методы исследования, которые выросли в действии и размышлении. Чтобы наблюдать, мы должны постичь: а постичь мы можем только наблюдая. Все мы знаем, как непостижимы – за исключением эпох усиления взаимности и, возможно, даже приобретенного единства интересов – два пола друг для друга. Родители могут вспомнить, какими загадочными казались им их собственные старшие; и в большинстве случаев им приходится ощущать глубину пропасти, которая в некоторых направлениях отделяет их от сердец их детей. Даже в цивилизованной Европе рядовой представитель каждой нации имеет в основе убеждение (которое в моменты страсти или удивления поднимается и находит резкое выражение), что иностранец странен, иррационален и абсурден. Если иностранец, к тому же, настолько далек, как китаец (или австралийский «черный»), вряд ли найдется что-то слишком мерзкое, бессмысленное или бесчеловечное, во что европеец не поверит с готовностью в случае с тем, кто, возможно, в свою очередь, назовет его «иностранным дьяволом». Лишь в порыве благородного рыцарства британские рядовые могут настолько умерить свои изолированные предрассудки, чтобы признать в отношении «Fuzzy-wuzzy», что «Он бедный захудалый ’eathen, но первоклассный боец».
Не каждый человек является наблюдателем, который решил назвать себя таковым, и не всякий наблюдатель за короткий промежуток времени и при снисходительном отношении к чужим привычкам может стать достоверным репортером представлений какого-нибудь варварского племени о земных и воздушных вещах, а также о скрытых вещах духов и богов. Бесспорно, «интервьюер» – полезное существо, когда нужно найти «копию», или когда резкие персонажи и живописные происшествия необходимы, чтобы стимулировать инертную публику, всегда открытую для интереса к чему-то новому. Но он плохой вклад в накопленные материалы науки.
Настоящая наука создается из других материалов. И если даже годы номинального общения и пространственного соседства порой оставляют человека в положении чужака, то что говорить о попытках разглядеть психическую жизнь животных? Оправдает ли любопытство, побуждающее нас наблюдать за действиями странных существ, – оправдает ли курс экспериментов по изучению их поведения в искусственных условиях – либеральные выводы о том, почему они так себя ведут и что они при этом думают и чувствуют? Прежде всего, необходимо знать, что наблюдать, как, и, прежде всего, для чего. Но если это предположить, то далее мы должны жить с животными не только как их хозяева и эксперты, но и как их друзья и собратья; мы должны быть в состоянии – и так легко, чтобы не было заметно никаких усилий – отбросить бремя и одежды цивилизации; мы должны обладать той печатью симпатии и сходства, которая вызывает доверие и разрушает сдержанность, с которой наши бедные родственники, будь то люди или другие, реагируют на первые приближения незнакомого начальника. Вполне вероятно, что в этом случае у нас будет меньше поводов удивляться их странностям или восхищаться их проницательностью. Но более высокое и философское удивление может, как и в других случаях, когда мы проникаем в сердце нашего предмета, занять место дешевой и детской любви к чудесам или вульгарного стремления к комическим чертам.
Из всей этой массы материалов собственно психолог может непосредственно использовать лишь скупо. Даже в качестве иллюстраций его данные не должны слишком часто представляться во всей их грубой и непереваренной индивидуальности, иначе он рискует оставить одностороннее впечатление. Каждый отдельный случай, индивидуальный и исторический, – если только он не продемонстрирован с тем истинным искусством гения, которого мы не можем ожидать от среднего психолога, – пусть даже незначительно, но искажает полную и всестороннюю истину. Анекдоты хороши, и для мудрых они несут в себе целый мир смысла, но для слабых умов они иногда предлагают все, что угодно, только не те моменты, которые они должны подчеркивать. Без деталей индивидуального реалистичного исследования нет психологии, достойной названия. История, рассказ, мы должны иметь: но в то же время, вместе с философом, мы должны сказать: я не придаю большого значения рассказам. И это то, что всегда – за исключением редких случаев, когда к этому примешивается что-то вроде гениальности, – делает эзотерическую науку трудной и непопулярной. Она не смеет – если она верна своей идее – опираться на какое-либо количество простых случаев, как на изолированные, нередуцированные факты. Однако она может обладать реальной силой только в том случае, если концентрирует в себе жизненную силу многих случаев, а также извлекает суть и единство всех случаев.
С другой стороны, она не может слишком прямолинейно и целенаправленно обращаться к практическому применению. Вся эта теория умственного прогресса от одушевленной души до полноты религии и науки имеет дело исключительно с универсальным процессом образования: «воспитание человечества», как мы можем его назвать: способ, с помощью которого разум становится истинным и реальным46. Поэтому вопрос о том, как перенести эту общую теорию на арену образования, искусственно направляемого и планируемого, является сложным и длительным. Попытаться сделать это одним шагом означало бы повторить ошибку Платона, если только Платон мог предположить (что кажется невероятным), что теоретическое изучение диалектики истины и добра позволит его правителям, без подготовки специального опыта, взять на себя высшие задачи законодательства или управления. Вся политика, как и всякое образование, покоится на этих принципах средств и условий умственного роста: но обучение в конкретной жизни, хотя оно и не может развить способность формулировать общие законы, часто лучше подготовит к управлению относительным, чем простая логическая схоластика по первым или абсолютным принципам.
В заключение следует отметить один или два момента, которые, как представляется, имеют кардинальное значение для прогресса психологии. (1) Необходимо обозначить ее отличие от физических наук: другими словами, особенность психического факта. Не достаточно просто сказать, что опыт достаточно четко обозначает эти границы. Напротив, термины «сознание», «чувство», «разум» и т. д. для многих психологов, очевидно, являются просто названиями. В частности, привычки физических исследований, привнесенные в изучение психики, приводят к большому количеству того, что можно назвать лишь мифологией. (2) Необходимо более четко осознать проблему отношений психического единства к психическим элементам. Но для этого необходима более тщательная логическая и метафизическая подготовка, чем обычно предполагается. Учение о тождестве и необходимости, о всеобщем и индивидуальном должно быть пройдено, как бы утомительно это ни было. (3) Необходимо осознать различие между первосортными и второсортными элементами и факторами психической жизни. Простая идея как презентативная или непосредственная должна быть очищена от более логико-рефлексивных, или нормативных, идей, которые принадлежат суждению и рассуждению. И число этих ступеней в умственном развитии кажется бесконечным. (4) Но, кроме того, необходимо разделение – пусть временное – между тем, что можно назвать принципами, и тем, что является деталями. В настоящее время в психологии «принципы» – это слово, почти лишенное смысла. Полная, все объясняющая система, конечно, невозможна в настоящее время и, возможно, всегда будет таковой. Однако если бы усилия мысли были сконцентрированы на кардинальных вопросах, и в нее было бы вброшено меньше традиционных деталей, можно было бы сделать многое для плодотворного детального исследования. (5) И наконец, возможно, если психология является философским исследованием, то желательно сделать какой-то намек на ее цель и проблему. Если же это всего лишь абстрактная отрасль науки, то, конечно, никаких таких намеков нет.
Эссе III. О некоторых психологических аспектах этики
Уже упоминался вопрос о границах между логикой и психологией, между логикой и этикой, этикой и психологией, психологией и эпистемологией. Каждое из этих понятий время от времени затрагивает область, которая кажется более подходящей для других. Логику иногда ограничивают, обозначая ею изучение условий производного знания, канонов умозаключения и способов доказательства. Если ее рассматривать более широко, как науку о формах мышления, то предполагается, что она подразумевает мир фиксированных или стереотипных отношений между идеями, систему стабильных мыслей, управляемых незыблемыми законами в абсолютном порядке незапамятных или вечных истин. В противовес такой фиксированности, психология должна иметь дело с этими же идеями как с продуктами – как с вырастающими из живого процесса мышления, имеющими за собой историю и, возможно, перспективу дальнейших изменений. Приведенный таким образом генезис может быть либо простой хроникой-историей, либо философским развитием. В первом случае в нем будут отмечены случаи и обстоятельства, реакции ума и среды, под влиянием которых формировались идеи. Такой психологический генезис нескольких идей можно найти во второй книге «Эссе» Локка. В последнем случае речь идет скорее о внутреннем движении, действии и реакции в самих идеях, которые рассматриваются не как следствие случайных событий, а как саморазвитие, органическое развитие. Но и в том, и в другом случае идеи будут показаны не как готовые и независимо существующие виды в мире идей-вещей, не как неизменная схема или каркас, а как рост, как история и развитие. Психология в этом смысле была бы динамической, в отличие от предполагаемой статической обработки идей и понятий в логике. Но можно сомневаться, насколько правильно называть это психологией: если только психология не имеет дело с содержанием психической жизни, с их смыслом и целью, а не, как кажется правильным, просто с их характером психических событий. Такая психология – это скорее эволюционистская логика, диалектический процесс, а не аналитика данных.
Таким же образом этика может быть приведена в один из видов контакта с психологией. Можно предположить, что этика, как и логика, предполагает и имеет дело с некой непреложной схемой требований, миром морального порядка, управляемого неизменным или универсальным законом; вечным царством права, существующим независимо от человеческой воли, но подлежащим изучению и бескомпромиссному повиновению. В противовес этому предполагаемому абсолютному порядку психология, можно сказать, показывает генезис идеи обязанности и долга, рост авторитета совести, формирование идеалов, относительность моральных идей. Здесь она также может прийти к этому выводу, используя более внешний или более внутренний способ аргументации. Он может попытаться показать, другими словами, что обстоятельства порождают эти формы оценки поведения, или утверждать, что они являются необходимым развитием человека, каким он является. Можно снова усомниться в том, что это правильно называть психологией. Однако в конечном счете ее цель, по-видимому, заключается в том, что объективный порядок неправильно понимается, когда он рассматривается как внешний или квазифизический порядок: как закон, написанный и санкционированный внешним авторитетом – как, по словам Канта, гетерономия. Если этот порядок объективен, то потому, что он в некотором смысле субъективен: если он выше простой индивидуальности человека, то он все же в некотором смысле тождественен его истинной или универсальной самости. Таким образом, «психологическое» здесь означает признание того, что логический и моральный закон автономен: что он не дан, но хотя и необходим, но необходим внутренним движением разума. Метафора закона, короче говоря, вводит в заблуждение. Ведь согласно распространенному, хотя, возможно, и ошибочному анализу этого термина, сущность закона в политической сфере состоит в том, чтобы быть разновидностью повеления. И это скорее односторонне практический или эстетический взгляд. Сущность закона вообще и предпосылка всякого закона в частности – это скорее единообразие и универсальность, самосогласованность и отсутствие противоречий: или, другими словами, рациональность. Его сущностная противоположность или противоречие по сути – это привилегия, попытка изолировать случай от других. Она не обязательно должна всегда требовать голого единообразия – требовать, чтобы одно и то же действие совершалось разными людьми: но она всегда должна требовать, чтобы каждая вещь, находящаяся в сфере ее действия, рассматривалась на принципах полной и тщательной гармонии и последовательности. Она требует, чтобы с каждой вещью обращались по общественным принципам и публично: ничего отдельного и единичного, как простое происшествие или как мир сам по себе. К нему можно относиться по-разному, но всегда на основе общего блага, как к части охватывающей системы.
Однако существует, вероятно, и другой смысл, в котором психология тесно связана с этикой. Если рассматривать человека как микрокосм, то его внутренняя система будет в большей или меньшей степени воспроизводить систему большого мира. В старой психологии различали верхний или высший порядок способностей и нижний или низший. Так, в интеллектуальной сфере интеллект, суждение и разум ставились выше чувств, воображения и памяти. Среди активных способностей разумная воля, практический разум и совесть были поставлены выше аппетитов, желаний и эмоций. И это использование слова «факультет» так же старо, как и у Платона, который считает науку высшим факультетом по сравнению с мнением или воображением. Но это применение, которое кажется вполне законным, в первую очередь не относится к психологии. Несомненно, оно представлено психикой: но у него другой источник. Оно проистекает из оценки, суждения о сравнительной истинности или реальности того, что означает или выражает так называемый психический акт. Такие способности находятся в иерархии средств и целей и предполагают нормативную или критическую функцию, которая классифицирует реальность. Психически элементы, входящие в знание, не отличаются от тех, что принадлежат мнению: но они ближе к адекватному отображению реальности, они истиннее, или ближе к Идее. И в основном мы можем сказать, что истинно или более реально то, что удается более полно организовать и объединить элементы – то, что все больше и больше поднимается над яистичной или изолированной частью в полное единство всех частей. Таким образом, высшая способность – это более тщательная организация того, что в других местах менее гармонично систематизировано. Мнение фрагментарно и частично: оно начинается резко и случайно с неизвестного и не менее резко уходит в неизвестность. Знание же, напротив, едино, и это единство придает ему силу и превосходство. Существующие таким образом силы являются субъективными аналогами объективно ценных продуктов. Так, разум – это субъективный аналог мира, в котором все составляющие гармонизированы и находятся в должной взаимосвязи. Это продукт или результат, который важен не психологически, а логически или морально. Это способность, потому что она означает, что на самом деле ее обладатель упорядочил и систематизировал свою жизнь или свои представления о вещах. Психологически она, как и неразумие, представляет собой соединение элементов: но в случае разума это соединение бесконечно и бесконечно последовательно; это знание полностью унифицировано. Различие, таким образом, не является в строгом смысле психологическим: ведь оно имеет эстетический или нормативный характер; оно логично или этично: оно обозначает, что идея или поступок приближаются к истине или добру. И поэтому, когда Батлер или Платон отличает разум или рефлексию от аппетитов и привязанностей, и даже от самолюбия или от сердца, которое любит и ненавидит, это не совсем психологическое разделение в узком смысле. Иначе говоря, это, по словам Платона, не просто «части», но в равной степени «виды» и «формы» души. Они обозначают степени в той гармонизации ума и души, которая воспроизводит постоянную и полную истину вещей. Например, самолюбие, как его описывает Батлер, имеет лишь частичное и узкое представление о ценности поступков: оно поглощает и зацикливает на себе: оно не может уловить полной зависимости узкого интереса от большого и вечного «я». Таким образом, по Платону, сердечный человек – это всего лишь природа, которая приступами или с устойчивым, но ограниченным видением постигает большую жизнь. Эти части или виды не являются отдельными и сосуществующими способностями, а представляют собой степени в координации и объединении одной и той же единой человеческой природы.
1. Психология и эпистемология
Психологию, однако, в строгом смысле слова определить чрезвычайно трудно. Те, кто описывает ее как «науку о разуме», «феноменологию сознания», кажется, дают ей более широкий охват, чем они на самом деле имеют в виду. Психолог более строгой секты, напротив, стремится вывести нас за пределы разума и сознания. Его, как говорят, психология без психологии. Для него разум, душа и сознание – лишь актуальные и удобные названия для обозначения поля, почвы, на которой, как предполагается, происходят наблюдаемые им явления. Но они ни в коем случае не должны вмешиваться в работу; не больше, чем природа в целом может вмешиваться в строго физические исследования, или жизнь и жизненная сила – в теории биологии. Так называемый Разум следует рассматривать лишь как сцену, на которой происходят определенные события. В этом поле, или на этой сцене, существуют определенные относительно конечные элементы, которые по-разному называют идеями, представлениями, чувствами или состояниями сознания. Но эти элементы, хотя они и называются идеями, не следует считать более чем механическими или динамическими элементами; сознание – это скорее их продукт, продукт, предполагающий определенные операции и отношения между ними. Если мы хотим быть строго научными, мы должны, как утверждается, рассматривать факторы сознания как не сознательные сами по себе: мы должны рассматривать их как квазиобъективные, или в абстракции от сознания, которое их наблюдает. я должно превратиться в простое вместилище или арену психических событий; его независимое значение или цель должны быть проигнорированы, как не относящиеся к вопросу.