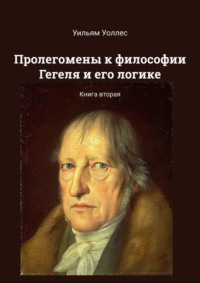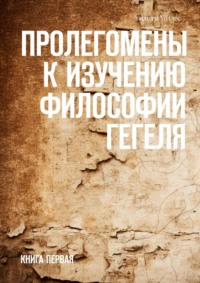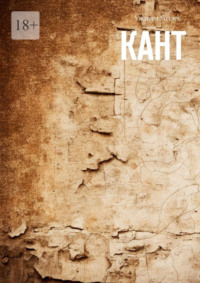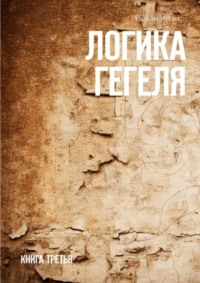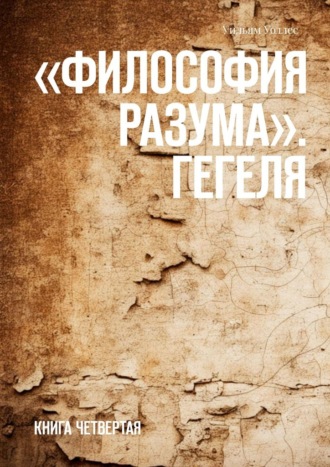
Полная версия
«Философия разума». Гегеля. Книга четвертая
Из этой области психической физиологии или физиологической психологии Гегель во втором подразделе своей первой части переходит к «Феноменологии разума» – к сознанию. Чувствующая душа тоже сознательна, но в более слабом смысле этого слова3: она испытывает чувства, но едва ли может сказать, что сама знает, что они у нее есть. Как сознание, душа отделяет то, что она есть, от того, что она чувствует. Возникает различие между субъектом, который сознает, и объектом, который он сознает. И главным, очевидно, является отношение между ними, или само Сознание, как стремящееся отличить себя как от своего субъекта, так и от своего объекта. Отсюда, вероятно, можно понять, почему она называется «Феноменология разума». Разум пока еще не более чем эмерджент4 или кажущийся: он еще не обладает самообладанием и самоутверждением. Однако он больше не един с окружающей природой, которую он ощущает, он видит себя настроенным против нее, но только как пассивный ее реципиент, tabula rasa, на которой отражается внешняя природа или которой представляются явления. С другой стороны, не являясь более пассивным орудием внушений извне, его жизненный инстинкт, его нисус5 самоутверждения развивается, через противоборство с подобным нисусом, в сознание самости, Я и Мое против Ты и Твоего. Но в той мере, в какой оно развивается в противостоянии и признании других, столь же яцентричных «я», оно выходит за рамки более узкой характеристики собственно Сознания. Это уже не просто разумное восприятие или воспроизведение мира, но жизнь, с восприятием (или апперцепцией) этой жизни. В каком-то смысле оно вернулось к своему изначальному единству с природой, но теперь это ощущение своей самости – сознание себя как фокуса, в котором субъективное и объективное едины. Или, выражаясь языком великого поборника реализма6, позиция Разума или полноценного Разума такова: «Мир, который представляется нам, есть наше восприятие, следовательно, он в нас. Реальный мир, из которого мы объясняем явление, есть наша мысль: следовательно, он в нас».
Третий подраздел теории субъективного разума – собственно психология – занимается разумом. Это настоящая, независимая Психея – отсюда и особое употребление термина «Психология». «Душа, – говорит Гербарт, – несомненно, обитает в теле: существуют, кроме того, соответствующие состояния одного и другого: но в душе нет ничего телесного, в теле нет ничего чисто психического, что мы могли бы причислить к нашему „Я“: привязанности тела не являются представлениями „Я“, и наши приятные и неприятные чувства не лежат непосредственно в органической жизни, которой они благоприятствуют или препятствуют». Душа, так понятая, – это разумное и волевое «я», существо интеллектуальных и «активных» сил или явлений: это Разум. А «Разум, – добавляет Гегель 6, – есть именно это возвышение над природой и физическими модусами, над сопряжением с внешним объектом». Ничто не является для него внешним: он, скорее, интериоризирует всю внешность. В этой собственно психологии мы находимся вне всякой непосредственной связи с физиологией. «Психология как таковая, – замечает Гербарт, – имеет общие вопросы с идеализмом» – с доктриной, согласно которой вся реальность является психической реальностью. Она прослеживает, в изложении Гегеля, этапы пути, на котором разум реализует ту независимость, которая является его характерной позицией. С интеллектуальной стороны эта независимость обеспечивается языком – системой знаков, с помощью которых интеллект воспринимает внешние объекты как свои собственные, ставшие частью его внутреннего мира. Кто-то сказал, что наука – это, в конце концов, всего лишь язык, хорошо владеющий языком. Так вот, переиначив это высказывание, мы можем отметить, что язык – это внутренний мир, присвоенный разумом. С активной стороны независимость разума проявляется в самоудовлетворении, в счастье, или самодовольстве, когда импульс и воля достигли удовлетворения в равновесии, а душа обладает собой в полноте. Такой разум7, который сделал мир своим заверенным владением в языке и который наслаждается собой в самообладании души, называемом счастьем, – это свободный разум. И это самое высокое, чего может достичь субъективный разум.
На этом месте, возможно, завершив психологию, обычная философия разума остановилась бы.
Гегель же, вместо того чтобы закончить, переходит к области того, что он называет объективным разумом. Ибо до сих пор это была лишь история подготовки, внутреннего украшения и оснащения, и нам еще предстоит увидеть, что из этого получится в действительности. Вернее, нам еще предстоит рассмотреть социальные формы, на которые опирается эта подготовка. Разум, самообладающий и уверенный в себе, или свободный, является таковым только благодаря объективной форме, с которой параллельно идет его основное развитие. Разумная воля, или практический разум, была последним словом психологического развития. Но разум, который является практическим, или воля, которая является разумной, реализуется через действие, которое принимает регулярные формы, и через практику, которая преобразует мир. Теория объективного разума очерчивает новую форму, которую принимает природа под властью интеллекта и воли. Этот интеллектуальный мир реализует себя, преобразуя физическое в социальное и политическое, данные природные условия существования в свободно устанавливаемую систему жизни, примитивную борьбу видов за существование в порядки социального государства. Если принять человека за существо, обладающее волей и разумом, то эта внутренняя способность, какова бы ни была ее степень, будет пытаться наложить свой отпечаток на природу и воспроизвести себя в правовом, нравственном и социальном мире. Царство дела заменяет царство слова или возвышается на его основе, и вместо равновесия хорошо настроенной души наступает гармоничная жизнь социального организма. Короче говоря, мы находимся в сфере этики и политики, юриспруденции и морали, закона и совести.
Здесь, как и всегда в системе Гегеля, существует триада ступеней. Сначала область Закона или Права. Но если мы называем это правом, то должны не допускать мысли об особом законотворце, о сознательном навязывании законов, прежде всего политическим начальником. И если мы называем его правом, мы должны помнить, что это нейтральное, бесчеловечное, абстрактное право: право, принцип которого – беспристрастное и бесстрастное единообразие, равенство, порядок; не моральное право или справедливость, которая учитывает обстоятельства, личные претензии и обеспечивает защиту от собственной твердости. Разумная воля человека, набросившись на простые дары природы в качестве их назначенного хозяина, создает мир собственности – вещей, служащих инструментом и рассматриваемых как прилагательные к человеческой личности. Но автономия Разума (который латентно присутствует в воле) влечет за собой определенные последствия. Действуя, он также, в силу присущего ему качества единообразия или универсальности, устанавливает для себя закон и законы, создавая царство формального равенства или упорядочивающего закона. Но это простое равенство, которое не противоречит тому, что в других отношениях может быть избыточным неравенством. То, что делает один, если это действительно должно рассматриваться как сделанное, могут или даже должны делать другие: каждый поступок создает ожидание продолжения и единообразия поведения. Тот, кто совершает поступок, связан им, а другие вправе поступать так же. Материал, который человек присваивает, создает систему обязательств. Таким образом, в ходе естественного взаимодействия разумных воль и неизбежного хода человеческих действий и реакций возникает система прав и обязанностей. Этот закон равенства – основа справедливости и семя благожелательности – является строительными лесами или, возможно, скорее рудиментарным каркасом общества и моральной жизни. Или это голый скелет, на который должны быть наложены более мягкие и полные очертания социальных тканей и этических органов.
Таким образом, первый ареал объективного разума предполагает второй, который Гегель называет «нравственностью». Это слово следует воспринимать в его строгом смысле как протест против квазифизического порядка закона. Это мораль совести и доброй воли, внутренней правильности души и цели, как вседостаточной и высшей. Здесь проявляется дополнительный фактор социальной жизни: элемент свободы, спонтанности, самосознания. Девиз внутренней морали (в отличие от духа законности) таков (по словам Канта): «Нет ничего без квалификации добра, ни на небе, ни на земле, а есть только добрая воля». Существенным условием добра является то, что действие должно совершаться целенаправленно и разумно, а также при полном убеждении в его благости со стороны совести агента. Характерной чертой описанной таким образом морали является ее существенная внутренность и суверенитет совести над всей гетерономией. Ее оправдание состоит в том, что она протестует против власти простого внешнего или объективного порядка, существующего и правящего в отрыве от субъективности. Ее недостатком является тот оборот, который она придает этому утверждению прав субъективной совести: вкратце это выражается в том, что она стремится выставить простой индивидуализм против простого универсализма, вместо того чтобы осознать единство и существенную взаимозависимость этих двух явлений.
Третий подраздел теории объективного разума описывает положение дел, в котором эта антитеза явно преодолевается. Это моральная жизнь в социальном сообществе. Здесь закон и обычай преобладают и обеспечивают фиксированную постоянную схему жизни: но закон и обычай в их истинном или идеальном понимании являются лишь принудительным выражением разума и воли тех, кто живет в соответствии с ними. С другой стороны, разум и воля отдельных членов такого сообщества пронизаны и одушевлены его всеобщим духом. В таком сообществе, составляя его, индивид одновременно свободен и равен, и это благодаря духу братства, который составляет его духовную связь. В мире, который, как предполагается, управляется простой законностью, на первый план выходит исключительно идея права; и когда это так, часто может случиться, что summum jus summa injuria. В простой морали акцент делается исключительно на идее внутренней свободы, или на необходимости гармонии рассудка и воли, или на зависимости поведения от совести. В союзе этих двух понятий, в моральном сообществе, как оно обычно устроено, простая идея права заменяется или контролируется и модифицируется идеей справедливости – равновесия между двумя предшествующими, поскольку мотив и цель используются для модификации и интерпретации строгого права. Но этот эффект – эта гармонизация – достигается благодаря преобладанию новой идеи – принципа благожелательности, – принципа, который, однако, сам модифицируется основополагающей идеей права или закона8 в мудрую или регулируемую доброту.
Но главное, что Гегель рассматривает в этой главе, – это взаимозависимость формы и содержания, общественного порядка и личного прогресса. В картине этической организации или гармонично живущего морального сообщества он показывает нам отчасти основную идею, которая дала место противопоставлению закона и совести, а отчасти – очертания идеала, в котором этот конфликт становится лишь инструментом прогресса. Эта организация имеет три уровня или три типичных аспекта. Это семья, гражданское общество и государство. Первый из них, семья, включает в себя те первичные единства человеческой жизни, где естественная близость пола и естественные узы родства оказывают преобладающее влияние на формирование и поддержание социальной группы. Это, так сказать, душевное ядро социальной организации: где принципом единства является инстинкт, чувство, всепоглощающая солидарность. Далее следует то, что Гегель назвал гражданским обществом, – подразумевая под гражданским противоположность политическому, общество тех, кого можно назвать буржуа, а не горожанами, – и подразумевая под обществом противоположность общине. Существуют и другие естественные влияния, связывающие людей вместе, помимо тех, которые формируют тесные единства семьи, рода, племени или клана. Экономические потребности связывают людей в гораздо большем радиусе, способном почти бесконечно расширяться, но также и в гораздо менее интенсивном и глубоком смысле. Гражданское общество – это более или менее слабо организованная совокупность таких объединений, которые, если, с одной стороны, не дают человеческой жизни застаиваться в рамках одной лишь семьи, то, с другой стороны, еще сильнее усиливают тенденцию к конкуренции и борьбе за жизнь. Наконец, в политическом государстве происходит синтез семьи и общества. Семьи; в той мере, в какой государство имеет тенденцию развиваться на данной природой единице нации (расширенная семья, дополняющая по мере необходимости реальное происхождение фиктивными инкорпорациями), и, по-видимому, никогда не сохраняло себя постоянно иначе, как на основе преобладающей общей национальности. Общество; в той мере, в какой расширение и рассеяние семейных связей оставило свободное место для дифференциации многих других сторон человеческих интересов и действий и дало почву для полного развития индивидуальности. Вследствие этого государство (а такое государство, которое описывает Гегель, по сути, является идеей или идеалом современного государства)9 имеет некую искусственность. Оно может поддерживаться только свободным действием разума: оно должно обнародовать свои законы: оно должно довести до сознания принципы своей конституции и создать органы для поддержания единства организации через несколько отдельных провинций или противоборствующих социальных интересов, каждый из которых склонен настаивать на праве домашнего произвола.
Государство, которое в действительности всегда должно быть квазинациональным, является, таким образом, высшим единством природы и разума. Его естественная основа в земле, языке, крови и многочисленных связях, вытекающих из них, должна постоянно возводиться в разумное единство посредством всеобщих интересов. Но элементы расы и культуры не имеют существенной связи, и они постоянно стремятся разорвать между собой. Кровь и суд вечно воюют в государстве, как и в индивидууме10: космополитический интерес, для которого максимой является Ubi bene, ibi patria, противостоит национальному, который берет на вооружение патриотические слова Гектора11. Однако государство имеет еще один источник опасности в самом принципе, который породил его. Оно возникло в результате антагонизма: его крестили на поле боя, и оно живет только тогда, когда способно заявить о себе против чужого врага. И это обстоятельство, как правило, усиливает и даже извращает его естественную основу – национальность: придает самому понятию политического негативный и поверхностный вид. Но, несмотря на все эти недостатки, государство в его Идее имеет право на имя, которое дал ему Гоббс, – Смертный Бог. Здесь в некотором роде кульминирует явно объективное, можно даже сказать, видимое и осязаемое развитие человека и разума. Здесь оно достигает определенной завершенности – объединения реальности и идеальности: квазибессмертия, квазивсеобщности. То, что отдельный человек не мог сделать без посторонней помощи, он может сделать в силе своего содружества. Многое, что в одиночестве было лишь неявным или потенциальным, в государстве актуализируется.
Но Бог государства – это смертный Бог. Это всего лишь национальный и ограниченный разум. Чтобы быть актуальным, нужно, по крайней мере, начать с самоограничения. Или, скорее, актуальность рациональна, но всегда с обусловленной и относительной рациональностью12: она находится в царстве действия и повторного действия, в царстве изменения и природы. В ней есть противоборствующие силы вне ее и противоборствующие силы внутри нее. Его единство никогда не бывает совершенным, потому что оно никогда не создает истинного тождества интересов внутри и не сохраняет абсолютной независимости снаружи. Таким образом, истинное и реальное государство – государство в его Идее – реализации конкретного человечества, разума как полноты и единства природы – не достигается ни в одном отдельном или историческом государстве: оно уплывает, когда мы пытаемся схватить его, в бесконечный прогресс истории. Всегда государство, историческое и объективное, указывает за пределы себя. Сначала оно делает это в череде времен. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht.13 И в этой гибели мира вечный взрыв проносится по сменяющим друг друга поколениям временного, одно изгоняя другое со сцены времени – каждое потому, что оно не соответствует Идее, которую пыталось выразить, и уступило врагу извне, поскольку не было настоящим и истинным единством внутри.
Но если временное убегает перед другим временным, оно остается в той мере, в какой оно, пусть и неадекватно, дало выражение и видимую реальность, – в той мере, в какой оно указывает внутрь и вверх, к вечному. Земное государство – это также и город Божий; и если республика Платона, кажется, не находит себе места в реальности плоти и крови, она вечно стоит как свидетель на небесах идеи. За мимолетной чередой консульств и диктатур, аристократии и империи, вражды плебеев с патрициями, за той кажущейся анархией властей, которой для поверхностного наблюдателя является так называемая римская конституция, стоит вечный Рим, единый, сильный, победоносный, semper eadem: Рим Вергилия и Юстиниана, призрак которого все еще преследует семихолмный город, но который с полным духовным присутствием живет в законах, литературе, нравах современного мира. Найти более подходящее выражение для этого Абсолютного Разума, чем то, которое он имеет в этическом сообществе, – достичь той реальности, которую моральный мир представляет лишь однобоко, – вот задача искусства, религии и философии. Этим попыткам найти истину и единство Разума и Природы и посвящен третий раздел Гегеля.
3. Религия и философия
Здесь будет уместно предостеречь от неверного восприятия этого последовательного порядка изложения14. Поскольку считается, что этап следует за этапом, историческое воображение, управляющее нашим обычным течением идей, превращает логическую зависимость во временную последовательность. Но это, конечно, не означает, что более поздний этап следует за более ранним в истории. Поздний этап более реален, а значит, более фундаментален. Но мы можем понять, только абстрагируясь и затем выходя за пределы наших абстракций, или, скорее, показывая, как абстракция подразумевает отношения, которые заставляют нас идти дальше и дальше нашего произвольного ареста. Поэтому каждый этап либо противостоит предыдущему как антитезис, который неизбежно преследует его как обвиняющий дух, либо является соединением исходного тезиса с антитезисом, в союзе, который не следует называть синтезом, поскольку он представляет собой более тесное слияние и истинный брак умов. Истина и реальность, хотя и фундаментальная, оценивается по достоинству и проявляется во всей своей силе только там, где она предстает как примирение и воссоединение частичных и противоположных точек зрения. Так, например, полное значение государства проявляется не до тех пор, пока мы рассматриваем его изолированно, как предполагаемое единое государство, а только тогда, когда оно видится в конфликте истории, в его действительной «энергии» как мировой державы среди держав, всегда указывающей за пределы себя на нечто универсальное, чем оно хотело бы быть, но не может быть. Или, опять же, никогда не было гражданского или экономического общества, которое существовало бы только под крылом государства или в одностороннем принятии государственных полномочий на себя: и семья не является изолированной и независимой единицей, принадлежащей к предполагаемой патриархальной эпохе, но всегда была смешана с политическими и гражданскими комбинациями и находилась в многообразной зависимости от них. Истинная семья, в самом деле, далеко не предшествуя государству во времени, предполагает политическую власть, чтобы придать ей определенную сферу и социальную стабильность: это хорошо видно на примере той типичной формы, которая представлена в римском государстве.
Таким образом, религия не накладывается на уже существующую политическую и моральную систему и не наделяет ее дополнительными санкциями. Истинный порядок лучше описать как обратный. Реальной основой социальной жизни и даже интеллекта является религия. Как причудливо выразились некоторые мыслители, известное покоится и живет на лоне Непознаваемого. Но когда мы это говорим, то сразу же должны уберечься от заблуждения. Существуют самые разные религии, и некоторые из них, о которых больше всего слышно в современном мире, существуют или выживают только в форме традиционного названия и почитаемого вероучения, утратившего свою силу. Религия также не обязательно связана с определенным представлением о сверхъестественном – о личной силе, находящейся за пределами природы. Но во всех случаях религия – это вера и теория, которая придает единство фактам жизни, и придает его не потому, что это единство детально доказано или обнаружено, а потому, что жизнь и опыт в своей глубочайшей реальности неумолимо требуют и доказывают сердцу такое единство. Религия времени – это не номинальное вероисповедание, а его доминирующее убеждение в смысле реальности, принцип, одушевляющий все его существо и все его стремления, вера в законы природы и цель жизни. Тускло или ясно ощущаемая и воспринимаемая, религия имеет своим принципом (нельзя сказать, что объектом) не непознаваемое, а внутреннее единство жизни и знания, действия и сознания, единство, которое удостоверяется в каждом ее знании, но никогда не может быть полностью доказано суммированием всех ее установленных элементов. Как такой ощущаемый и вершимый синтез мира и жизни, религия есть единство, придающее стабильность и гармонию социальной сфере; так же как мораль, в свою очередь, дает частичное и практическое воплощение идеалу религии. Но религия не просто устанавливает и санкционирует мораль; она также освобождает ее от определенной узости, которую она всегда имела, как земля. Или, говоря иначе, мораль имеет в себе нечто большее, чем простое моральное предписание. За моралью в ее строгом смысле, как за обязательным долгом и повиновением закону, поднимается и расширяется прекрасное и доброе: прекрасное, которое бескорыстно любят, и доброе, которое отбросило всю утилитарную относительность и стало свободной самовозрастающей радостью. Истинный дух религии видит в божественном суде не просто окончательную санкцию на человеческую мораль, не выдержавшую земного испытания, не перестройку социальных и политических суждений в соответствии с нашими более совестливыми внутренними стандартами, но определенную, хотя и неисчислимую для нашего частичного видения, пропорцию между тем, что сделано и что перенесено. И в этом освобождении морали от ее ограничений искусство оказывает не малую помощь. Таким образом, религия по-разному предполагает мораль, чтобы заполнить ее пустующую форму, а мораль предполагает религию, чтобы дать своим законам высшую санкцию, которая в то же время указывает за пределы их ограничений.
Но искусство, религия и философия по-прежнему опираются на национальную культуру и индивидуальный разум. Как бы ни возносились они в высоты идеального мира, они никогда не оставляют позади реальность жизни и обстоятельств и парят в свободном эмпирее. И все же существуют степени универсальности, степени, в которых они достигают обещанного. Как различные психические ядра индивидуального сознания имеют тенденцию в ходе опыта собираться вокруг центральной идеи и путем слияния и ассимиляции формировать целостную психическую организацию, так и в ходе истории происходит усложнение и слияние национальных идей и стремлений, которые, хотя и сохраняют индивидуальность и ограниченность конкретной национальной жизни, в конечном итоге представляют собой организацию социальную, эстетическую и религиозную, которая является типом человечества в его универсальности и полноте. Всегда двигаясь в меру и в соответствии с реальным развитием своей социальной организации, искусство и религия нации стремятся дать выражение тому, что социальная и политическая действительность в своем лучшем, но несовершенном виде воплощает в жизнь. Они все больше и больше становятся не просто конкурирующими фрагментами, поставленными рядом с другими, а сравнительно равными и полными отображениями многогранной и многоголосой реальности человека и мира. И все же они всегда живут и процветают во взаимодействии с полнотой практических институтов и индивидуальных характеров. Абстрактно универсальное искусство и религия – это заблуждение, пока не исчезнут все различия географии и климата, языка и темперамента. Если эти энергии существуют в силе и реальности, а не только в названии, их нельзя применить как панацею или надеть как готовый костюм. Если они живы, они вырастают с индивидуальным типом из социальной ситуации: и они могут достичь вульгарной и видимой универсальности только в той мере, в какой они прикрепляются к некоторым простым и единообразным аспектам, – части, практически идентичной повсюду в человеческой природе во все времена и расы.