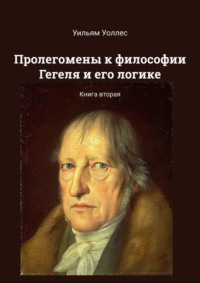Полная версия
«Философия разума». Гегеля. Книга четвертая
К счастью, здесь нет необходимости вдаваться в подробности. То, что предлагает Гербарт, – это не метод математического измерения психических фактов: это теория механики и статики, специально приспособленная к особенностям психических явлений, где силы даны без синусов и косинусов, где вместо гравитации мы имеем постоянное усилие (как бы упругость) каждой идеи вернуться к своему неконтролируемому состоянию. Короче говоря, он утверждает, что практически является Кеплером и Ньютоном разума, и тем самым оправдывает туманные обещания более чем одного писателя о разуме – прежде всего, возможно, Дэвида Юма, который выходит за рамки простого обещания, чтобы наука о разуме последовала примеру физики. И главным аргументом в пользу его предприятия является заявление Канта о том, что ни одна совокупность знаний не может претендовать на роль науки, кроме как в той мере, в какой она математична. Особенностью этого предприятия является то, что самосознанию, я, не позволено вмешиваться в свободную игру психических сил. я психологически является результатом, продуктом и изменяющимся продуктом этой игры. Игра сил, несомненно, представляет собой единство: но это единство заключается не в синтезе сознания, а в сущностном единстве Души. А Душа по своей сути не есть ни сознание, ни самосознание, ни разум: но нечто, на основе единства чего они строятся и развиваются32. Простое «представление» не включает в себя дальнейшую сверхъестественность сознания: оно представляет, но еще не обязательно, чтобы мы также сознавали, что существует представление. Это, по выражению Лейбница, восприятие: но не апперцепция. Это просто прямое, еще не отраженное представление. Постепенно в результате работы механических психик возникает ядро, плавающее единство, фиксированная или определенная центральная совокупность.
Предложение о математическом методе было подхвачено последующими исследователями (как это делалось еще до Гербарта), но не в том смысле, который он имел в виду. Эксперимент теперь занял видное место в психологии. Но в той мере, в какой это произошло, психология утратила свой исконный характер и бросилась в объятия физиологии. То, что вычислял Гербарт, было действиями и реакциями идейных сил: то, что предлагает измерять современная экспериментальная школа, – это в значительной степени скорости определенных физиологических процессов, числовая спецификация определенных фактов. Такие измерения, несомненно, полезны, как и точность цифр в других областях. Но, взятые сами по себе, они ни на йоту не продвигают нас на пути к науке. Как эксперименты, далее, – чтобы отметить момент, обсуждавшийся в другом месте34, – их ценность зависит от точки зрения, от теории, которая привела к ним, от ценности общей схемы, для которой они предназначены, чтобы дать особое новое определение. Во многих случаях они служат для того, чтобы придать яркую реальность тому, что было завуалировано под общей фразой. Истина выглядит гораздо реальнее, когда она выражена в цифрах: как размер огромного дерева на фоне скалы; или как Мильтон выводит падшего ангела, указывая соотношение между его копьем и самой высокой норвежской сосной. Но пока общие отношения между душой и телом не будут сформулированы более четко, такая статистика будет иметь лишь любопытное значение.
3. Психология и ее критики
Против чего Гербарт (как и Гегель) находит постоянную почву для возражений, так это против разговоров о психических способностях. Это возражение является частью общей характеристики всей высшей философии; и его повторение служит иллюстрацией того, как трудно любому классу людей увидеть себя так, как видят их другие. Если вульгарные люди и считают философию чем-то правдивым, так это тем, что она имеет дело с далекими и заумными общими понятиями, что она пренебрегает оттенками индивидуальности и реальности и пускается в бессодержательные общие идеи. Но было бы легко собрать у великих мыслителей антологию отрывков, в которых они называют великим делом философии спасение наших понятий от неопределенности и общности народных представлений и придание им реальной, а не просто номинальной, индивидуальности.
Вольфианская школа, которую Гербарт (не в меньшей степени, чем Кант) застал во владении полем и которая в Германии может считаться лишь незначительным вариантом половинчатого отношения вульгарной мысли, укоренилась в психологии способностей. Эмпирическая психология, говорил Вольф35, говорит о количестве и характере душевных способностей: рациональная психология скажет, каковы они «должным образом» и как они существуют в душе. Предполагается, что существуют общие вместилища или тенденции психических операций, которые с течением времени заполняются или квалифицируются определенным образом: и когда этот вопрос решен, остается зафиксировать метафизические основания этих фактов.
То, что учение о способностях должно закрепиться в психологии, не так уж удивительно. В непсихическом мире объекты легко различаются в пространстве, а отдельная вещь длится какое-то время. Но фаза ума как таковая мимолетна и неопределенна: ее индивидуальные черты, исходящие от ее «объекта», имеют тенденцию вскоре исчезать в памяти: вся свежесть определенных характеров исчезает, и остается только смутный «прием» одного и того же во многих, своего рода гипостазированный представитель, слабый, но стойкий, того, что в опыте было постоянно меняющейся последовательностью. Мы обобщаем здесь, как и везде: но везде множество единичных случаев остается, чтобы противостоять нам более эффективно. Но в Уме огромное разнообразие реального воображения, памяти, суждений забывается, и имя в каждом случае сводится к скудной абстракции. Таким образом, тождество в характере и действии, будучи отрезанным от изменяющихся элементов в его реальном действии, трансформируется в нечто существенное, в несуществующую способность. Отношение одной к другой из сил, созданных таким образом путем абстракции и фантазии, становится проблемой значительной важности, в частности, их причинно-следственные отношения: пока в конце концов они не оказываются вне и независимо друг от друга, вовлеченные, как говорит Гербарт, в настоящий bellum omnium contra omnes. Но эта ипостась способностей становится источником еще больших трудностей, когда ее рассматривают в связи с ипостасью души, или Я, или я. Для Аристотеля Душа в ее общем аспекте – это энергия или сущность; а ее отдельные фазы – это энергии. Но в руках неподготовленного человека эти понятия оказались значительно смещены. Сущность или субстанция стала пониматься (как можно видеть у Локка, и еще больше в свободных разговорах) как нечто, – субстрат, – или особая природа, – (о которой самой по себе ничего нельзя сказать36, но которая, тем не менее, постоянна и, возможно, нетленна): это нечто субстанциальное проявляет определенные свойства или деятельность. Так возникла, с одной стороны, Душа-вещь, – субстанция, непонятая и чувственно одушевленная сверхъестественной чувственностью, – обитательница трансцендентного или даже трансцендентного мира; а с другой стороны, появились фактические проявления, несколько экспозиций этой силы, поддающиеся описанию психические факты. Соответственно, мы оказываемся перед проблемой того, как эта единая субстанция или сущность соотносится с несколькими сущностями или ипостасями, известными как факультеты. А сзади остается еще одна проблема – как эти абстрактные сущности соотносятся с реальными и конкретными единичными актами и состояниями души и разума.
Эта гипостазация факультетов и это различие «субстанциальной» души от ее «случайностей» или явлений выросло – через материалистические склонности популярной концепции – из указаний, найденных у Аристотеля. Она достигла своего апогея, возможно, в школе Вольфа в Германии, но к ней прибегала поверхностная психология во все века. Ибо, хотя, с одной стороны, она, казалось, спасала субстанциальную Душу, от неподкупности которой зависели великие вопросы, с другой стороны, она протягивала руку экспериментатору, которому она предлагала свободно искать среди явлений. Но если она была прибежищем пассионарности, то она также была вечным объектом порицания со стороны всех более великих и смелых духов. Таким образом, психология Гоббса может быть поспешной и грубой, но она, по крайней мере, одушевлена верой в то, что психическая жизнь непрерывна, а не прервана резкими разделениями, отделяющими умственные способности. Образ» (согласно его материалистически окрашенной психологии), который, когда он является сильным движением, называется чувством, переходит, когда он ослабевает или распадается, в воображение, и порождает, путем различных осложнений и ассоциаций с другими, воспоминание, опыт, ожидание.
Точно так же волевое движение, являющееся следствием или фазой воображения, начинающееся сначала с мелких движений, называемых самими по себе «усилиями», а по отношению к их причине «аппетитами» или «желаниями,33 в совокупности приводит к Воле, которая является «последним аппетитом в размышлении». Спиноза, его современник, высказывается в том же духе38. «Способности интеллекта, желания, любви и т. д. либо полностью фиктивны, либо являются не чем иным, как метафизическими сущностями, или универсалиями, которые мы имеем привычку формировать из частностей. Таким образом, предполагается, что воля и интеллект относятся к той или иной идее, тому или иному волевому усилию так же, как каменность к тому или иному камню, или как человек к Петру или Павлу». Предполагается, что они представляют собой нечто общее, что определяется и отделяется. Но в разуме, или в мыслящей душе, таких вещей нет. Есть только идеи: и под «идеей» мы должны понимать не образ на сетчатке глаза или в мозгу, не «бессловесное нечто, вроде картины на панно34,» а способ мышления или даже сам акт интеллектуализации. Идеи – это ум: ум не имеет идей. Далее, каждая «идея» как таковая «предполагает утверждение или отрицание» – это не образ, а акт суждения – содержит, как мы должны сказать, имплицитную ссылку на актуальность, – ссылку, которая в волении становится эксплицитной. Таким образом (заключает следствие Eth. ii. 49), «воля и интеллект – одно и то же». Но в любом случае «факультеты» как таковые – это не более чем entia rationis (т. е. вспомогательные способы представления фактов).
Не менее отчетливо и здраво высказывается в этом направлении Лейбниц. «Истинные силы никогда не бывают просто возможностями: они всегда являются тенденцией и действием». Монада», то есть квазиразумная единица бытия, – это, по сути, деятельность, а ее действия – это восприятия и влечения, то есть тенденции переходить от одного состояния восприятия или действия к другому. Именно из разнообразия, сложности и отношений этих миниатюрных или маленьких восприятий и влечений следует объяснять выдающиеся явления сознания, а не путем предположения, что они обусловлены тем или иным фактором. Душа – это единство, саморазвивающееся единство, единство, которое на каждой стадии своего существования проявляет себя в восприятии или идее, – каждое такое восприятие, однако, является, повторяя часто цитируемую фразу, plein de l’avenir et chargé du passé: каждое, другими словами, не стационарно, а активно и актуально, является прогрессивной силой, а также репрезентативным элементом. Прежде всего, Лейбниц придерживается мнения, что душа порождает все свои идеи из самой себя: что ее жизнь – это ее собственное производство, не простое наследование идей, которые она имеет от рождения и природы, не просто импорт в пустую комнату извне, но необходимый результат ее собственной конституции, действующей в необходимой (предопределенной) взаимности и гармонии с остальной частью вселенной. Но Гоббса, Спинозу и Лейбница внимательнее всего слушали в тех местах, где они поддерживали или боролись с господствующими социальными и теологическими предрассудками. Их проблески истинной проницательности и даже ощутимый вклад в развитие истинной психологии были проигнорированы или забыты. Больше внимания, пожалуй, привлекла попытка, выполненная в совершенно ином стиле. Это была система Кондильяка, который, как говорит Гегель (стр. 61), предпринял безошибочную попытку показать необходимую взаимосвязь нескольких видов психической деятельности. В «Трактате об ощущениях» (1754), последовавшем за «Эссе о происхождении человеческих познаний» (1746), он попытался систематически провести дедукцию или выведение всех наших идей из ощущений или проследить происхождение всех наших способностей из ощущений. Если разум не обладает никакими другими способностями, кроме чувствительности, то проблема состоит в том, чтобы показать, как он приобретает все остальные способности. Предположим, что есть разумное животное, которому предлагается одно ощущение, или одно ощущение, выделяющееся среди других. В таких обстоятельствах ощущение «становится» (devient) вниманием: или ощущение «есть» (est) внимание, либо потому, что оно одно, либо потому, что оно более живо, чем все остальные. И снова: перед таким существом поставим два ощущения: воспринимать или чувствовать (apercevoir ou sentir) эти два ощущения – одно и то же (c’est la même chose). Если одно из ощущений не присутствует, а является уже сделанным ощущением, то восприятие его – это память. Память, таким образом, есть лишь «преобразованное ощущение» (sensation transformée). Далее, если предположить, что мы воспринимаем обе идеи, то это «то же самое», что их сравнивать. А чтобы сравнить их, мы должны увидеть различие или сходство. Это и есть суждение. «Таким образом, ощущение последовательно становится вниманием, сравнением, суждением». И на дальнейших этапах процесса уравнивания оказывается, что ощущение снова «становится» актом размышления. То же самое можно сказать о воображении и рассуждении: все они являются преобразованными ощущениями.
Если так обстоит дело с интеллектом, то так же обстоит дело и с волей. Чувствовать и не чувствовать себя хорошо или плохо невозможно. Соединив затем это чувство удовольствия или боли с ощущением и его преобразованиями, мы получаем ряд фаз, начиная с желания, страсти, надежды, воли. «Желание – это только действие тех же способностей, которые приписываются пониманию». Живое желание – это страсть: желание, сопровождаемое верой в то, что ничто не стоит на его пути, – это воля. Но соедините эти аффекты с уже отмеченными интеллектуальными процессами, и вы получите мышление (penser)35. Таким образом, мышление во всей своей полноте есть только и всегда преобразованное ощущение.
Нечто подобное, хотя и не столь простое и прямолинейное, знакомо нам по некоторым английским психологиям, в частности, по психологии Джеймса Милля41. Взятые в буквальном смысле слова, эти идентификации могут показаться натянутыми или пустяковыми. Но если мы посмотрим за пределы слов, то обнаружим подлинный инстинкт поддержания и демонстрации единства и непрерывности психической жизни во всех ее модификациях, – к сожалению, в сочетании с предубеждением, которое иногда бывает в пользу сведения высших или более сложных состояний ума к простому продлению низших и нищих рудиментов. Но в остальном такие анализы полезны как помощь против тенденции инертной мысли принимать каждое имя в этом отделе за различимую реальность: тенденции отделять волю от мысли, идеи от эмоций и даже воображение от разума, как будто одно может быть тем, что оно исповедует, без другого.
4. Методы и проблемы психологии
Трудности современной психологии, возможно, лежат в других направлениях, но от них не менее стоит предостеречься. Они проистекают главным образом из неспособности или неумения понять центральную проблему психологии и склонности позволять перу (если речь идет о книге на эту тему) свободно блуждать по почти неограниченному диапазону примеров, иллюстраций и приложений. Хотя верно, что надлежащее исследование человечества – это человек, вряд ли можно сказать, что не может быть подведено под эту тему. Homo sum, nihil a me alienum puto, можно сказать. Помещенный в нечто среднее между физиологией (суммирующей все результаты физической науки) и всеобщей историей (включающей вклад всех отраслей социологии), психолог не испытывает нужды в материале. Он может забрести в этику, эстетику и логику, в эпистемологию и метафизику. И нельзя с уверенностью сказать, что он действительно нарушает границы, пока земля остается так плохо огороженной и смутно замкнутой. Беспорядочная коллекция наблюдений над чертами характера, анекдотов о событиях в психике, смешанная с гипотетическими описаниями того, как нормальный человек может предположительно развивать свои так называемые способности, и включающая некоторые словесные различия, подобные словарю, может составить неинтересный и, возможно, объемный труд под названием «Психология».
Отчасти именно стремление идти в ногу со временем обусловливает обильные выдержки или рефераты из трактатов по анатомии и функциям нервной системы, которые, сопровождаемые, возможно, диаграммой мозга, часто составляют вступительную главу работ по психологии. Даже если бы эти исследования позволили получить большее количество подтвержденных результатов, чем сейчас, они были бы лишь приложением и иллюстрацией к соответствующей теме36. В нынешнем виде и до тех пор, пока они остаются в значительной степени гипотетическими, их использование в психологии лишь способствует распространенному заблуждению, что, когда мы можем представить в материальных очертаниях теорию, которая иначе не была бы подкреплена, она получила еще одно свидетельство в свою пользу. Вполне спорно, что из общей биологии человека может быть полезно вырезать раздел, включающий те ее части, которые были особенно интересны в связи с выражением или порождением мыслей, эмоций и желаний. Но в таком случае выделение только мозга, особенно органов чувств и волевых движений, – ошибка, если не считать того, что только эта область психофизики была достаточно четко очерчена. Преобладающая половина жизни души связана с другими частями физической системы.
Эмоции и волевые усилия, а также общий тон идей, если они должны быть связаны с их выражением и физическим сопровождением (или аспектом), потребуют описания сердца и легких, а также пищеварительной системы в целом. Да и не только их. Анализ нервной системы (особенно крупной), хотя и является самым современным, но не только он важен, как хорошо видели Платон и Аристотель. Таким образом, если биология должна быть адаптирована для использования в психологии (и если психология имеет дело не только с когнитивными процессами), то, по-видимому, требуется либеральный объем физиологической информации.
Экспериментальная психология – термин, используемый со значительной вольностью содержания; то же самое относится и к физиологической психологии, или психофизике. И эта вольность возникает главным образом потому, что существует неопределенность в вопросе о том, что является главным, а что второстепенным в исследовании. Эксперимент, очевидно, является подспорьем для наблюдения: и пока последнее практически осуществимо, первое, казалось бы, имеет шанс на внедрение. Но в любом случае эксперимент – это лишь средство достижения цели, и он может быть осуществлен только под руководством гипотезы и теории. Его главная ценность была бы в том случае, если бы сфера психологии была полностью параллельна одной из областей физиологии. Уже давно Спиноза и (в некоторой степени) Лейбниц утверждали, что не существует психического явления без его телесного эквивалента, кулона или корреспондента. По его мнению, ordo rerum (молекулярная система движений) – это то же самое, что и порядок идей. Но идеи возникают в полном сознании только через определенные промежутки времени, при особых условиях или когда они достигают определенной величины. В том виде, в каком их представляет сознание, они часто бывают прерывистыми и резкими: они не всегда несут в себе собственное объяснение. Поэтому, если мы ограничиваемся только крупными явлениями сознания, наша наука несовершенна: многие вещи кажутся аномальными; прежде всего, возможно, воля, внимание и тому подобное. Мы видели, как Гербарт (отчасти следуя намекам Лейбница) пытался преодолеть эту трудность с помощью гипотезы идей-сил, которые порождают формы и материю сознания своим взаимным воздействием и сопротивлением. Физиологическая психология заменяет реальность Гербарта и его идею-силу более материалистическим видом реальности, возможно, функциями нервных клеток или другими аналогичными образованиями. Там она надеется однажды обнаружить лежащую в основе непрерывность событий, которая в верхнем диапазоне сознания часто затушевывается, и тогда процесс будет, как говорится, объяснен: мы должны быть в состоянии представить его без пробелов.
Эти большие надежды могут иметь определенное воплощение. Они могут привести к отказу от некоторых фиктивных психических процессов, которые до сих пор описываются в работах по психологии. Но в целом они могут иметь лишь негативное и вспомогательное значение. То есть, помочь опровергнуть фальшивые связи и предложить более истинные. Они будут иметь силу против того способа мышления, который, когда Psyché не дает нам объяснения, обращается к телу и интерполирует душу между состояниями тела: способа, который, в старой фразеологии, перескакивает от конечных причин к физическим, и от физических (или эффективных) к конечным. Здесь, как и везде, физическое имеет свое место: и здесь, более чем во многих других местах, с физическим обращались несправедливо. Но весь предмет требует обсуждения так называемых «отношений» души и тела: предмета, в котором популярные представления и так называемая наука радикально расходятся. «Но опасность, которая угрожает экспериментальной психологии, – говорит Мюнстерберг, – заключается в том, что при изучении деталей связь с принципиальными вопросами может быть настолько упущена из виду, что исследование в конце концов натолкнется на объекты, не имеющие научной ценности37. Психология слишком легко забывает, что все те числовые статистики, которые эксперимент позволяет нам формировать, являются лишь средством для психологического анализа и интерпретации, а не самоцелью. Она накапливает цифры и числа и не задается вопросом, имеют ли полученные таким образом результаты какую-либо теоретическую ценность: она ищет ответы до того, как вопрос был четко и ясно сформулирован; в то время как ценность экспериментальных ответов всегда зависит от точности, с которой поставлен вопрос. Напомню читателю, как один исследователь за другим проводил многие тысячи экспериментов по оценке небольших промежутков времени, при этом ни один из них не задавался вопросом о том, какой именно момент пытались измерить эти эксперименты, что за психологическое явление имело место в данном случае или какие психологические явления использовались в качестве стандарта временных интервалов. И вот у каждого был свой произвольный стандарт измерения, каждый нагромождал горы цифр, каждый доказывал, что его предшественник ошибался; но ни Эстель, ни Мехнер не продвинули проблему чувства времени ни на шаг.
«Все это должно быть изменено, если мы не хотим дрейфовать в бесплодную схоластику… Повсюду из правильного представления о том, что принципиальные проблемы требуют исследования детальных явлений и что это исследование должно протекать в сравнительной независимости от вопроса о принципах, выросло ложное убеждение, что описание детальных явлений является конечной целью науки. И вот, бок о бок с деталями, имеющими значение для принципов, мы имеем другие, совершенно безразличные и теоретически бесполезные, к которым относятся с тем же рвением. К решению своих бесплодных проблем старые школяры применяли определенную остроту; но для того, чтобы из бесплодных экспериментов получались массы цифр, нужна лишь определенная нечувствительность к приступам уныния. Пусть меньше собирают цифры ради них самих: вместо этого пусть проблемы доводятся до такой степени, чтобы ответы на них приобретали характер принципов. Пусть каждый эксперимент будет основан на гораздо большем количестве теоретических соображений, тогда число экспериментов может быть значительно уменьшено38».
То, что говорит о специальной группе исследований один из ведущих молодых психологов, не может не отразиться на всех отделах, в которых психология может учиться. Ведь физиологический, или, как его технически называют, психологический, эксперимент координируется со многими другими источниками информации. Многое, например, можно узнать из тщательного изучения языка теми, кто сочетает глубокие лингвистические знания с психологической подготовкой. Именно в языке, устном и письменном, мы находим одновременно великий инструмент и великий документ отчетливого человеческого прогресса от простой Психеи к зрелому Нусу, от Души к Разуму. Независимо от того, рассматриваем ли мы разновидности его структуры под различными этнологическими влияниями или стадии его роста в нации и отдельном человеке, язык дает нам свет на дифференциацию и консолидацию идей. Но и здесь легко потеряться в мире этимологии или увлечься заманчивыми вопросами реальной и идеальной филологии.