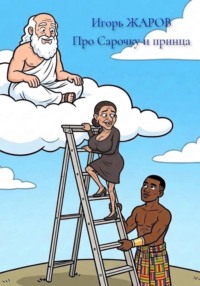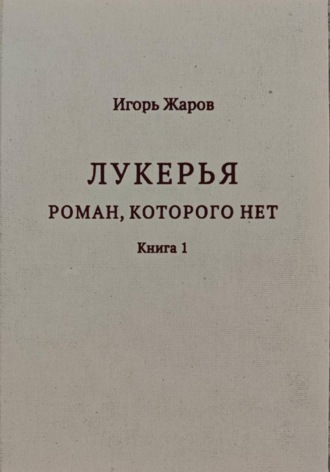
Полная версия
Лукерья. Роман, которого нет
Было о чём подумать.
* * *
Сначала шли молча, но, проходя мимо злосчастного места, Алексей поинтересовался:
– Катя, а почему ты снова решила пойти этой же дорогой, а не, к примеру, по Большой Введенской? Там и свету побогаче, да и народ, думаю, поприличней будет.
– Сама не знаю, привычней мне тута, а другой дорогой заплутать боюсь. Я ж ведь не местная, из деревни недавно.
– Так раз я уже в провожатых, может, и в проводники сгожусь?
– А вы что ж, и впрямь станете меня каждый божий день встречать и провожать? Неужто приглянулась я вам, и вы решились ко мне в ухажёры набиться? Али краше не сыскалась?
Катя впервые за всё это время, кажется, искренне улыбнулась. Почему‑то было легко и непринуждённо с этим приятным, но совершенно незнакомым ей молодым человеком.
– А если и приглянулась – так что ж в том зазорного?
– А не спужаетесь?
– Так вроде не из пугливых я, да и чего мне, собственно, испугаться надо?
– А того, что вдовая я, да к тому же с дитём на руках – кому ж охота на свои плечи чужой крест ложить? А ежели вы это из баловства затеяли, то не выйдет у вас ничего, так и знайте.
– Ну так в том, что я вас буду по вечерам до дому провожать, в этом ведь нет никакого баловства?
– В этом – нет.
– Вот тогда завтра предлагаю пройтись не этой дорогой, а по Большой Введенской, согласны?
Катерина, несколько смутившись и утвердительно кивнув головой, подумала, что напрасно это она вот так вот, ни зáшто ни прóшто, а чуть было не обидела своего ухажёра.
– Ну вот и пришли, – сказала она, не доходя до дома. – Дальше я одна – не нужно, чтобы тётя случайно в окно углядела. И так не ко времени приду. До свидания, Алексей.
И Катя, привычным движением укутав лицо в платок, скоро скрылась за дверьми парадной.
* * *
– А что, Светлана Сергеевна, никак прекратились амурные приветы к нашему порогу? Который день уже ваза на окне пустует.
– Да уж, Гаврила Ермолаевич, видать, хорошего помаленьку.
– Оленька, голубушка, не ваш ли это принц лишил всех нас этакой красоты в такой унылый период, когда весь Петербург уже смирился с отсутствием солнца?
Бобровский отпил из чашки чай, не глядя на горничную, которая неспешно начала прибирать на столе. Ужин подходил к концу.
– Ой, да ну вас, Гаврила Ермолаевич, скажете тоже…
– Ну тогда, душа моя, Светлана Сергеевна, это надо полагать, ваш воздыхатель? Всем известно, что не существует прекраснее женщины, нежели в период, когда она, как и вы, находится в положении.
– Увы, разлюбезный мой супруг, но я здесь, к сожалению, совершенно ни при чём. Погоды последнее время стоят такие, что гулять мы вынуждены не далее чем в десятке шагов от нашего швейцара, и то недолго. А какой же, помилуйте, возможен флирт, а уж тем более роман на глазах у Матвеича?
– Нус, Катенька, тогда методом исключения остаётесь только вы. Себя я со всеобщего позволения вычеркну из списка подозреваемых.
Ольга хихикнула, а Катерина, смутившись, молча продолжала водить ложечкой, остужая и так давно уже остывший чай:
– И ничего не я, – наконец‑то ответила она, выдержав короткую паузу. – Я только одну розу в вазу поставила, давно: не знала, куда её деть, вот и поставила в вазу, что стоит на окне у лестницы.
– Где же вы её взяли? Купили?
– Нет, прохожий подарил, когда я сюда в первый день шла.
– Прохожий?
– Да, прохожий. Я к вам шла, а он – навстречу, цветок дал да и пошёл себе дальше.
– А как же он выглядел?
Все с нескрываемым интересом ожидали развязки беседы.
– А и не помню, не рассматривала я его, да и не ожидала, что здесь вот так вот запросто на улицах цветы раздают проходящим мимо женщинам.
– И с тех пор каждый третий день посыльный доставлял точно такую же и собственноручно менял. Ни записок, ни каких‑то других намерений тайный поклонник изъявить не пожелал. И прекратилось всё так же загадочно, как и началось. Любопытно…
Светлана Сергеевна тоже решила высказать свои домыслы и заодно принять участие в разговоре:
– Так, может, просто розы закончились, Гаврила Ермолаевич? Не сезон, знаете-ли. А ну как в следующее лето всё и повторится?
Бобровский поставил пустую чашку на чайное блюдце и посмотрел на Катю:
– Послушайте, Екатерина, я намерен просить, чтобы вы разместились у нас на необходимое время. Светлана Сергеевна уже на восьмом месяце, и я беспокоюсь о том, что она на ночь остаётся без вас. Устроитесь в комнате Марфы, и не нужно будет по вечерам каждый раз под дождями мокнуть да по тёмным улицам судьбу испытывать. Ну как, согласны?
– Так я‑то что, я согласная. Да вот только дочка моя – она и так цельными днями мамку не видит, а тут и вовсе…
– А если я предложу вам с дочкой своей переехать к нам? Разумеется, что на жалованье это никак не скажется.
Катя охотно кивнула головой, давая понять, что предложение её полностью устраивает.
– Ну вот и договорились. Тогда вы уж не откладывайте, а с завтрашнего дня и начинайте обживаться.
Глава
Большая Введенская
Они шли по Большой Введенской, пролегающей всего‑то в десятке шагов от Гулярной, ведущей к тому же Большому проспекту через Пушкарскую улицу. Добираться до Большого по Гулярной – всё равно что идти за околицей или огородами вдоль деревни…
Введенская открылась Катерине всем своим блеском: фасады доходных домов, выкрашенные в различные, но при этом всё ж таки мягкие цвета, не рябящие глаз, смотрели на Катю с обеих сторон просторной булыжной мостовой. Никуда не спешащие горожане то тут, то там ходили по своим надобностям; важные швейцары охраняли парадные входы; и свет, много света – не только от фонарей, стоящих по обе стороны улицы, но и от витрин магазинов и даже некоторых торговых лавок, в которых дела шли, по-видимому, не так уж и плохо.
На пересечении больших улиц – Введенской и Пушкарской – по правую руку находился небольшой сад, который своими скромными размерами больше походил на тихий и уютный сквер с предостаточным количеством скамеек.
Пушкарский сад и по сей день стоит на своём прежнем месте – тихий и тенистый уголок зелени посреди каменного и шумного города.
– Алексей, я вам должна сказать, что встречать и провожать больше меня не нужно. Не то чтобы мне этого не хочется или надоело, вовсе нет, напротив, просто так случилось, что я с Лушенькой, дочкой своей, теперь буду проживать в господском доме, в который я устроилась работать. Светлана Сергеевна, не ровён час, разродиться вздумает, и поэтому я обязана всегда при ней теперь быть – меня ведь для того и нанимали. А вам спасибочки – приятно мне очень, что вы вот так вот по-доброму со мной обходитесь.
Леди промолчал. Ещё совсем недавно он раздумывал над тем, как бы поскорее прекратить эти променады, которые ему не только скучны, но и начинали быть в тягость, потому как ни цели, ни пользы он в них не видел. И вот когда всё удачно разрешалось само собой так, что лучше и придумать было бы вряд ли можно, Лёха почувствовал внутри какую‑то тревожность. Не обеспокоенность, нет, а скорее душевную грусть. Он вдруг поймал себя на мысли, что ему было всегда легко и приятно идти рядом с этой простой деревенской женщиной, которая никаким боком не подходила под его фасон.
И вроде бы не ухаживал он за ней вовсе, не приносил букетов на каждую очередную вечернюю встречу, не говорил приятных слов, которых всегда ждут все женщины на подобных свиданиях, он даже не старался ей хоть как‑то понравиться, но Блембенский знал, он видел это в каждом Катином взгляде – что нужен ей. Не для какой‑то личной цели, выгоды или расчёта, а просто так – именно он, Лёха-Леди, нужен ей, Кате, каждый вечер просто так. Они даже не говорили порой друг с другом о каких‑то пустяках, о которых болтают обычно, чтобы скоротать время или путь, а просто шли молча всю дорогу, ограничиваясь дежурными «здравствуй – до свидания». И вот теперь этого всего не будет: не надо вечером заставлять себя волочиться из Мытнинского на угол Кронверкского и Большой Введенской, не надо суетиться, экономя каждую минуту, потому как времени, когда молочница приносила парное молоко с вечерней дойки, до свидания оставалось не так уж много.
Теперь всё. Теперь всё будет как раньше – сам себе хозяин, но всё одно почему‑то на душе как‑то погано.
– Почему вы молчите, Алексей, о чём задумались?
– Да ну, пустое. Что ж, я очень рад, что смог стать тебе хоть как‑то полезен.
– Я теперь проживать буду в доме Цеховой, недалеко от парка. Прощайте, Алексей.
– Я знаю, Катя. До свидания.
Не доходя до дома, как прежде Лёха остановился, а Катерина, ускорив шаг, направилась к дверям.
– А розы были красивые – всем понравились! – весело крикнула она и скрылась в темноте парадной.
Известив крёстную дочери о переезде к Бобровским, Катерина, признаться, не ожидала подобной реакции, ибо тётка это решение не только не одобрила, но и шибко ему воспротивилась:
– Совсем сдурела баба! Эвон, чего удумала – грудное дитё в чужой дом тащить. Нештоль своего нету? Али плохо тебе у меня? Да и не в поле ты работать идёшь, чтоб с собой ребёнка брать. Или оставить не с кем? Так а я на что? Чай, я крёстная мать ей, а не прохожая встречная-поперечная.
Одумайся, Катенька, Христом Богом тебя молю, не забирай от меня Лушеньку. Мне, может, и жить‑то осталось два понедельника, а что я за всю свою жизнь увидела? Мужа Бог прибрал – и пяти годков не прожили, а своих детей не дал. Племянник был такой, что лучше б и не было вовсе – и ты сама про то знаешь… А тут такую радость мне Господь на старость лет даровал. Да сама подумай: как ты с ней на руках барыне своей служить станешь? Чай, ведь и туда надо, и сюда тоже. А разродится та – тогда что? Так за двумя сразу уход нужен будет, всем внимание да ласку поровну делить придётся, ну а коли где не поспеешь, то как бы не взревновала твоя барыня. Одумайся, дочка, не разлучай, а уж я ей и ласку, и присмотр, и заботу – всё отдам.
Не смогла устоять Катерина после таких слов, да и то верно – права тётка, хоть и разрешение имеется, а всё ж не дело это.
На следующий день, уложив в узел всё необходимое, Катя собиралась поселиться у Бобровских в комнате Марфы, оставляя Лушу на воспитание крёстной – двоюродной тётке своего покойного мужа.
Лёха Блембенский, узнав о том, что розы понравились всем без исключения, решил на время покинуть город. Взяв у Фрегата на первое время небольшую часть из своей доли, он перебрался в Новгород, где снял комнату по сходной цене недалеко от вокзала.
Перед отъездом Лёха строго-настрого наказал Капитоновне, чтоб та следила за его комнатой, а молочнице дал адрес в доме 19 по Большой Разночинной и, уплатив на месяц вперёд, велел той носить молоко туда. А если спрашивать станут, кто направил, то чтоб не сказывала – неведомо, мол, и всё тут.
Осень, казалось, совершенно не сопротивляясь, тоже оставляла насквозь пропитанный дождями, серый и унылый, но всё же величественный и монументальный город, передавая свою власть над ним в суровые и холодные объятия зимы. Дожди сменялись снегом, который покрывал всё вокруг без разбора. Сперва он, приносимый ветрами, ложился на мокрые дома и дороги, а с первыми морозами весь Петербург уже щедро был одет в новенькое белоснежное покрывало. Снег высветлял фасады зданий, и город становился ярким, напоминая всем о своей красоте. Храмы и соборы колокольными звонами славили Господа и просили у него прощения и защиты для всех православных. Зимой колокола звенят куда дальше.
1907 год медленно подходил к концу.
Светлана Сергеевна во второй половине декабря родила девочку, которую решено было назвать Анастасией в честь одной из дочерей императора Николая и императрицы Александры.
Перед самыми родами в доме почти неделю дежурил опытный врач, нанятый Бобровским, который сразу после родов сказал, что ему очень помогла расторопность Катерины, и если бы не она, то он бы мог и не справиться. Уходя, врач выписал список лекарств для Светланы Сергеевны, которые нужно было закупить в аптеке незамедлительно. Но сразу же после того как Оленька закрыла за ним дверь, Катя подошла к Гавриле Ермолаевичу:
– Ну-ка, дайте-ка я гляну, чего там?
Взволнованный Бобровский протянул рецепт.
– Вот и хорошо, вот и дай вам Бог здоровья, господин доктор, – приговаривала она, превращая листок в рваные куски.
– Вы что делаете?! Как же это…
– Ничего, ничего, барин, не волнуйтесь. Как говорится, Бог не выдаст, а свинья не съест. А только пилюли энти пущай они сами кушают на доброе здоровье, ну а мы уж как‑нибудь теперь сами.
Глава вторая
Глава
Весна
Зима в Петербурге, надо признаться, не самая красивая пора. Нет, если, конечно, присмотреться, то запросто можно вдохновиться, а вдохновившись, и влюбиться в вой разнузданной вьюги над Невой; или в рвущуюся метель, словно кони на Аничковом мосту; и особенно даже в огромные снежные хлопья, парящие над Летним садом. Но в целом – это матовое, чёрно-белое, немноголюдное и даже безлюдное полотно, а холод ветров, проникающий в самую душу, способен сковать тебя крепче рек, попавших в ледяной плен до самой весны.
Солнце не балует горожан своим присутствием, лишь изредка появляясь на небосводе и то мимоходом, не задерживаясь. В такие редкие моменты можно любоваться переливающимися на морозе искрами на сугробах белого снега, похожего на сахар. Дни неумолимо коротки, а темнота порою, кажется, не закончится никогда. Серое небо настолько низкое, что можно прикоснуться – только протяни руку.
Но всё проходит, всему отмерян свой срок, и вот уже апрельская капель звоном заставляет солнце улыбаться и появляться всё чаще. Лёд на реках, как одинокий странник, задержавшийся в гостях, всё же встаёт с насиженного места и нехотя уходит прочь, куда‑то очень далеко, до следующей зимы.
Оттаивает и сам человек – хандра исчезает и просыпается любовь. Любовь ко всему, что окружает, что можно потрогать и особенно, что потрогать нельзя – только оттаявшая душа способна на чистую и искреннюю любовь.
В дверях стояла женщина лет под шестьдесят, небольшого роста и полноватая, в чёрном суконном пальто, поверх которого был надет передник – светлый, но немаркого оттенка. На голове у неё был затасканный серый шерстяной платок, обмотанный вокруг головы и завязанный сзади на шее. Из-под пальто виднелся край тёмной юбки, немного недостающей до ботинок.
– Есть кто? – крикнула женщина в пустой и мрачный коридор.
– А то как же не быть: чай, дом без хозяина – это уже и не дом, а так, сарай больше. Макаровна, ты, что ли? Ну проходи, чего в дверях‑то стоять?
– Здравствуй, Капитоновна.
– Давненько тебя не было, я уже, прости ты меня дуру, подумывать было начала – уж не померла ли ты?
– Жива, как видишь, видать, срок мой ещё не вышел. Вот, проведать зашла.
Макаровна, пройдя внутрь и закрыв за собой дверь, пару раз для порядка шаркнула ногами о кусок половика, лежащий у порога.
– Носишь ли молоко‑то, Макаровна?
– А чё ж, ношу пока – чай, жить‑то как‑то надо. Да я чего пришла‑то: сосед твой, Капитоновна, не возвернулся ли? Повидать бы мне его, а?
– Лёшка‑то? Приехал, уже как с неделю тому назад. Я было разузнать у него хотела, где был столько времени‑то, а он мне, якобы путешествовал. Но, правда, гостинец всё ж подарил – платок цветастый и чаю аж целую железную банку. Банка вся расписная – ну прямо глаз не оторвать! Это, значит, за то, что я за комнатой его приглядывала, а тебе‑то он на кой сдался?
– Так срок у нас по уговору нашему вышел, вот я и пришла узнать, куда теперь молоко носить – сюда али опять туда?
Капитоновна, вытирая уже больше по привычке сухие руки о фартук, надетый поверх кофты, вдруг перешла на шёпот:
– Так он вроде как у себя сейчас, покличь-ка попробуй.
Молочница робко постучала в дверь.
– Заходи, Макаровна! – раздался глухой голос из комнаты.
Леди сидел в трусах на кровати, накинув на плечи заношенный до дыр тулуп, служивший одеялом, и перетасовывал «библию» – игральную колоду карт, – зажав зубами дымящуюся папиросу.
– Что ж это ты, Лёшка, всю светёлку‑то прокоптил? Хошь бы форточку раскрыл, аль боишься вороны тебя утащат?
– Не шуми, Макаровна, присаживайся вон на табуретку, новости какие расскажи.
Макаровна, усевшись на предложенное место, начала развязывать платок – в комнате у Блембенского было немного душновато.
– Так а чё ж тебе рассказать‑то, коли все дни, словно рóдные братья – один на другой схожи, как две капли?
– Ты молоко‑то носила, куда тебе велено было?
– А то как же – каждый Божий день, как условились. Так я поэтому и пришла: сказать, что последний день вышел.
Лёха отложил колоду в сторону и, встав с кровати и поправив на плечах накинутый тулуп, прошлёпал босиком в коридор:
– Капитоновна! Угостишь нас с Макаровной чаем? А тебе зачтётся!
– Так а где ж взять‑то, ишь вздумал!..
– У тебя самовар ещё не остыл, и сахар по кусочку не забудь, да шибко кипяток не лей, а то для заварки места не останется.
Блембенский прикрыл дверь и вернулся к гостье:
– Ну а люди, что там живут, как тебе?
– Так а что? Люди как люди – старуха да дитё – вот и все люди. Марья – бабёнка простая, на слово охочая, а Катя…
– Марья? Какая Марья?
– Так бабка девочки, правда не рóдная, а так, через три борозды сиреневая ветка на берёзе, но она ей крёстной приходится.
– Ааа… ясно.
Дверь отворилась без стука, и Капитоновна, поставив на небольшой стол два стакана чая, так же молча направилась в обратную.
– Спасибо, соседка, дай Бог тебе здоровья.
Леди, чиркнув спичкой, прикурил потухшую папиросу и взглянул на молочницу.
– Ну так я и говорю – Марья. Она сама‑то вдовая и в девочке (Лушей её назвали) души ну прям не чает. И туда с ней, и сюда, а Катя – мать, значит, – всё работает да заходами своими не балует, но деньгами, правда, пособляет справно. Я когда впервые молоко‑то им принесла, Марья было подумала, что это Катерина так распорядилась, а после, когда выяснила у той, то меня особо‑то и не пытала. Мол, главное, чтоб девочке на пользу, а остальное не касается. Ну так что дальше‑то – носить им молоко или уже сюда, к тебе?
– А ты, Макаровна, и туда носи, и сюда тоже.
– Ну так я согласная, понятное дело. А аванец‑то дашь али как?
– Нету сейчас, не разбогател ещё. Ты так пока носи, а я скоро тебя савансирую. Согласна?
– Так а что ж, согласна.
– Чай пей, а то остынет.
С наступлением мая распускаются и зацветают не только деревья и прочие растения – расцветает и сам город. Всё вокруг становится вновь диковинным и разноцветным, великолепие Петербурга заново очаровывает своей архитектурой. И вроде бы видел этот или вон тот дом ранее и не раз, а всё ж таки останавливаешься и любуешься этими ажурными, витиеватыми балконами, множеством скульптур и прочих архитектурных изысков, украшающих фасады Петербургских дворцов и доходных домов. Особый восторг производят эркеры – эти нависающие над тротуарами массивные, безумной красоты элементы зданий. Вся эта весенняя симфония вселяет какую‑то надежду – надежду на лучшее в будущем и в целом, везде и во всём.
Дворы деревянных домов прячутся в зелени, скрывая свою серость, ласковое тепло пришло в столицу.
Но что это? Вдруг подул ветер чуть сильнее обычного и снова снег – крупный, белый, обильный, опять начинает кружить, сыпать и покрывать землю. В лучах майского солнца это больше похоже на сказку.
А впрочем, это вовсе и не снег, а лепестки цветущих вишен, которые озорной ветер сорвал с деревьев и устроил такой переполох. А вон там вовсе не сугробом засыпало зазеленевший уже кустарник, а просто так богато цветёт белая сирень.
Сиреневые букеты в эту пору повсюду: многие женщины несут их в руках по всему городу, надрав в ближайших дворах. Букеты разноцветные и различные по объему – от огромной охапки до скромной малюсенькой веточки. Цветки сирени можно встретить при входе в различные лавки и небольшие магазины вроде как для пущей яркости.
Лужайки усыпаны жёлтыми пятнами распустившихся одуванчиков, среди них на солнце разлеглись настоящие вельможи и господа города – коты и кошки, которых здесь не меньше, чем камней, коими вымощены все улицы Петербурга, а уважение и почёт им – соответствующие. Это – хвостатая охрана столицы от вероломства и бесчинства полчищ мышей и крыс, получившая статус элиты ещё во времена правления государыни-матушки Елизаветы Петровны, упокой Господь её душу и сохрани о ней вечную память в народе.
Коты и кошки здесь повсюду: на улицах города, во дворах, на заборах, на лестницах и даже на набережной. Здесь им никто не смеет угрожать, и они это понимают. Каждый житель готов взять любого под свою защиту.
Они отвечают за чистоту в городе, что не раз доказывали, и, забегая вперёд, замечу: не пройдет и полвека, как эта разномастная усато-полосатая армия вновь докажет свою необходимость и незаменимость.
После привычной процедуры Лёха-Леди вновь выставил тазик с молоком в коридоре за дверью.
Глава
В сквере у фонтана
– Катя, скажите, вы будете не против, если я попрошу вас снять этот ужасный передник и больше никогда его не надевать?
Катерина, переодев Анастасию, взяла её на руки и повернулась к Бобровской, передавая той дочку:
– Надо будет Макаровне наказать, чтоб и сюда начала молоко доставлять. Девочка не наедается – докармливать надо: ишь, как соску‑то пустую грызёт.
– Так, может, так и нужно, чтобы стройная выросла?
– Вы мне, барыня, это бросьте, это вам не в гимназиях ваших. Ребёнок должен есть вволю, чтоб организм креп, чтоб здоровье было да чтоб хворь всякая пристать не смогла, а если пристанет, то чтоб не одолела.
– Тогда, может, стоит за доктором послать, он совет дать сумеет?
– Много он понимает, ваш доктор, в бабьем‑то деле? Опять список пилюль рублей на десять нацарапает на листочке, а то и на пятнадцать – вот и все его советы, а у Макаровны молоко всегда доброе, да и носит она ко времени, не опаздывает.
– Я тебя про передник спрашивала.
– Так а что передник? Чай, он своё дело правит, юбка‑то всяк дороже будет. Ладно, Светлана Сергеевна, сниму.
– Вещи, оставшиеся после Марфы, думаю, пора уже куда‑то девать. Вы бы, Катя, занялись этим вопросом: что посчитаете нужным, можете оставить себе, правда, я не знаю, кому могут сгодиться Марфины туалеты?..
– Спасибочки, барыня, так знамо дело кому, исполню, не извольте беспокоиться – ничего не пропадёт.
– Хорошо, сделайте, пожалуйста, и про передник, прошу вас, не забудьте.
Катя молча преклонила голову, давая понять, что всё уяснила. От изящных приседаний, как у Ольги, она решила отказаться, поскольку раз уж никто не настаивает, то и нечего перед людями конфузиться.
* * *
Гаврила Ермолаевич Бобровский возвращался со службы привычной дорогой, когда к нему подошёл достаточно пожилой человек: лет уже много за шестьдесят, выше его ростом больше чем на голову, худощавый, в великолепно пошитом костюме и при трости.
– Моё почтение, ваше превосходительство господин Бобровский, – человек деликатно приподнял на голове котелок – цилиндр с округлым верхом, получивший своё название за схожую с этим предметом форму, продемонстрировав щедро усыпанную сединой, словно пеплом, голову. Полиц-
мейстер обратил внимание на бабочку, прикрывавшую верхнюю пуговицу белоснежной сорочки, и гладко выбритое лицо. Гаврила Ермолаевич понял, что титул «превосходительство» был дан намеренно, но промолчал.
– Что вам угодно?
– Видите ли, Гаврила Ермолаевич, я бы хотел вас просить, чтобы вы уделили мне минут пятнадцать-двадцать вашего времени. Вопрос, который я собираюсь вам изложить, напрямую не касается вашей должности, но, я полагаю, он вас заинтересует. Тема настолько деликатная, что я не посмел просить о встрече в вашем кабинете, но осмелился подойти вот так вот – на улице. Прошу простить меня за эту дерзость.
– Позвольте узнать – с кем имею честь?
– Моя фамилия Каплан. Я уже немолодой, но до сих пор всё ещё законопослушный человек, который не испытывает к вам ничего, кроме высочайшего уважения.
– Что ж, я вас слушаю.
– Вы будете не против, если мы пройдём в ближайший сквер? Так будет удобнее.
– Послушайте, господин Каплан, я не расположен – меня ждут дома ко времени.
– Я обещаю быть максимально кратким.
– Что ж, извольте.
Одна из скамеек в ближайшем сквере оказалась пустующей, и мужчины присели недалеко от небольшого, но уютного фонтана.
– Нус, я вас слушаю, господин Каплан.
– Совсем недавно в мои руки попала одна совершенно удивительная вещица, которую я намерен вам показать прямо сейчас. Вот, полюбопытствуйте, – Натан Ефимович достал из кармана кольцо – рубиновый перстень. Алый камень внушительных размеров был изящно обрамлён золотой оправой – тонкая ювелирная работа вызывала восхищение. На фоне льющейся воды и в блеске лучей заходящего солнца рубин вспыхнул искрами, похожими на детский смех, в каждой своей грани.