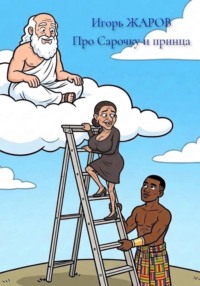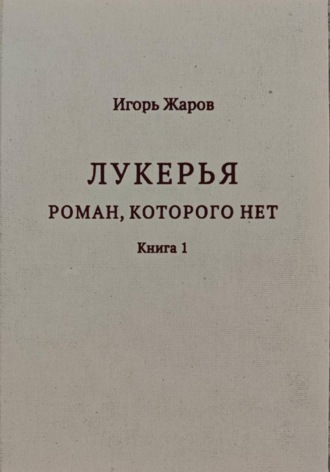
Полная версия
Лукерья. Роман, которого нет
– А что, разве есть весомые основания так полагать?
– Пока нет, но кто знает, что будет дальше? Ведь виной всему не кто иной, как матушка природа: обе девушки достаточно молоды и незамужние, они вправе думать и о собственном счастье. Как женщина я их понимаю и, конечно же, желаю им только добра, но что если вдруг, потеряв от любви голову, они перестанут с той же преданностью относиться к своим обязанностям?
– Ну так что же вы хотите от меня?
Бобровский внимательно смотрел на жену, нисколько не сомневаясь в серьёзности вопроса.
– Ровным счётом ничего особенного – просто хотелось бы узнать ваше мнение на этот счёт.
Светлана Сергеевна стояла посередине кабинета, не воспользовавшись предложенным ей стулом.
– Думаю, что повода для беспокойства нет. Я наблюдаю со стороны за вашими отношениями настолько, насколько имею на это возможность, и полагаю, что вы, Светлана Сергеевна, способны справиться с этим пикантным вопросом самостоятельно, без моего вмешательства. Любовь, голубушка, это не преступление, её предотвратить не представляется возможным. Да и подозрения ваши к тому же преждевременны, хотя и предсказуемы. Тут уж либо довериться, коли есть желание, либо с плеча рубить. Выберите, что вам ближе, а я поддержу любое Ваше решение.
– Благодарю вас, Гаврила Ермолаевич, именно на такой ответ я и рассчитывала.
– Не стоит, дорогая моя.
В выходной день на базаре с одобрения Оленьки Катерина купила себе ситцевое платье, пошитое из мануфактуры братьев Барановых. Как уверяла женщина, торговавшая на базаре «Барановский текстиль ничуть не хуже Ивановских ситцев и, уж конечно, превосходит продукцию Московский Трёхгорной Мануфактуры. Ну а что касаемо загранишных тканей, то да, русские фабриканты закупают материю за границей – на ветошь: надо же чем‑то и станки ткацкие протирать и полы помыть».
Платье красного цвета в мелкий и пёстрый узор, состоящий сплошь из причудливых завитушек, было с длинным рукавом, заканчивающимся строгим манжетом в тон самого платья. Пуговицы располагались от пояса до воротника, который не укладывался вокруг шеи, а был пошит стоечкой. Талию обтягивал неширокий поясок из той же ткани. Подол платья, конечно, был не настолько длинный, как хотелось бы, но при ходьбе всё равно можно было его слегка приподнимать, придерживая рукой.
Кате всегда нравилось, как Светлана Сергеевна делала так при необходимости: бралась двумя пальцами с боков платья, элегантно отведя в сторону незанятые три пальца, и шла так какое‑то время.
– Не сомневайся, дочка, этому платью сноса не будет – самый что ни на есть сегодня модный узор, – сказала торговка и, плюнув на палец, принялась пересчитывать деньги.
Светлана стояла спиной к окну и внимательно разглядывала обнову на Катерине.
– Ну что ж, а скажите, Катя, чем вы планировали украсить свою голову? Вы же не собираетесь идти на свидание простоволосой?
– Ну так платок, а чего ж ещё‑то? У нас с платками, чай, слабости или бедности какой нету, найдём, слава богу, из чего выбрать.
Бобровская в раздумьях молча вышла из залы и спустя пару минут вернулась, держа в руках шляпную коробку.
– Вот. Это было подарено мне ещё до замужества, но ни под один из моих туалетов она так и не подошла. Если хотите, Катя, я могла бы уступить вам эту шляпку в обмен на наше с Оленькой любопытство, которое вы удовлетворите подробным рассказом о вашем первом свидании. Разумеется, только в то время, когда Гаврила Ермолаевич уйдут на службу. Ну что, вы согласны?
Женская шляпка была просто восхитительна: бледно-розового оттенка, с небольшими полями, по кругу обрамлённая лентой, состоящей сплошь из цветков разных по цветовой гамме, и совершенно ничего не весила.
Катя, польщённая таким вниманием, растерянно держала шляпку в руках. Ну конечно же, она была согласна.
– Да где ж теперь подходящую голову под такое сыскать?
– Бросьте, вы вполне достойны этой английской шляпки. Берите и носите с удовольствием.
Переволновавшаяся Катерина молча ушла к себе, в комнату покойной Марфы, совсем забыв поблагодарить Светлану Сергеевну за великодушие. Но никто не придал этому значения – все всё понимали.
Леди пришёл на свидание в том же практически не ношенном костюме, пошитом еврейскими портными по просьбе Каплана. Начищенный и наглаженный, он как и прежде стоял на углу Кронверкского и Большой Введенской в ожидании Кати. Цветов при себе молодой человек, конечно же, не имел.
Он не сразу узнал яркую особу, идущую к нему навстречу, но когда она подошла ближе, Блембенский от удивления только и смог, что молча развести руками.
– Здравствуйте вам, Алексей.
– Вы что, знакомы с Натаном Ефимовичем?
– Нет, а кто это?
– Уже неважно. Здравствуйте, Катя.
– А куда мы с вами пойдём, Алексей?
От волнения Катя теребила в руках кончик пояска на платье.
– Вы уже бывали в центре этого чудесного города?
– Ой, да что вы, я только здесь, неподалёку – до тётки и обратно!
– Тогда – в центр, в самое сердце города! А после на набережную.
Лёха, подняв подбородок, начал выискивать стоящего неподалёку извозчика и, подняв вверх руку, крикнул куда‑то вдаль проспекта:
– Эй, милый!
Стук копыт о булыжную мостовую эхом разлетелся вокруг.
Погода была солнечная и тихая, так что редкие хлопья тополиного пуха, прибывшие, видимо, из Александровского парка, подолгу плавно кружили в воздухе.
– Куда прикажете, господин хороший?
– А прокати-ка ты нас, любезный, сперва на Невский, а там видно будет. Да шибко не гони, а так, чтоб с наслаждением, чтоб столицу нашу разглядеть можно было.
– А платить‑то как станете?
– А вот тебе задаток в три рубля, ну а дальше – как стараться станешь. Смотри, чтоб дамочка моя довольна осталась, тогда и о приварке подумать сможешь.
Толстый, грузный возничий лет за сорок, с окладистой бородой, в чёрной жилетке, надетой на белую сатиновую косоворотку с длинным рукавом, спешно снял с головы картуз и слез с пролётки. Предлагая пройти в экипаж, он сначала пропустил Блембенского, затем, ловко встав на одно колено, нежно обеими руками взялся за Катин башмачок, помогая той встать на подножку.
– Эээ, не залапай, полегче! – улыбался Лёха.
– Ничего, ничего, – отдувался извозчик, – прошу вас, барышня.
Катерина в этот момент уже с трудом что‑то осознавала, словно бы захмелевшая от восторга.
Свидание ещё не успело толком начаться, а уже столько всего – тут оно, конечно, у любой голова кругом пойти может.
– Это и есть Нева? – спросила Катя, глядя на Алексея, сидевшего рядом, когда они проезжали по мосту.
– Малая Нева, барышня, – не отвлекаясь от дела, утвердительным голосом ответил извозчик.
– А мост, что под нами, Биржевым называется, годков пятнадцать назад, как построен был, – добрый мост. А сама Нева дальше будет, я, как подъедем, дам знать.
Волнующая гладь малой Невы будоражила и захватывала дух. Катя с замиранием сердца смотрела на воду и с той, и с другой стороны моста, испытывая лёгкую тревожность. Свидание с Петербургом началось как это и полагается – нежно и навсегда.
Глава
Предложение Бобровской
На Невском рыжая кобыла медленной рысью двигалась по деревянной торцевой мостовой, у самого края булыжной, давая возможность внимательнее рассмотреть окружающую архитектуру: роскошь дворцов, выкрашенных в яркие цвета и украшенных статуями и лепниной; достоинства доходных домов с великолепными эркерами и балконами; возле каждой парадной стояли вахтенные швейцары, разодетые в форменные мундиры.
Народ здесь находился совсем другой – совсем не такой, что на окраине города. Нарядные дамы и сопровождающие их кавалеры – все были по большей части из дворянства или из чиновных, разодетые в поразительной красоты наряды и строгие костюмы. Многие мужчины были при цилиндре и трости. Никто не спешил, не торопился – все степенно прохаживались или следовали. Редко где можно было высмотреть простолюдных. Много купечества и особенно военных – облачённых в форму, конных и пеших. И фонари…
Бесчисленное множество фонарей, различных по форме: от круглых, как шары, до привычных, на четыре грани, прямых и скошенных под трапецию.
Казанский собор, повергающий своим видом в такое исступление, что и описать его не представляется возможным, если увидал впервые и воочию. Это что‑то монументальное, строгое, величавое и могущественное, но в то же время манящее и родное. Храм своими колоннадами, словно руками, старается обнять всех православных прихожан, кто пришёл к нему, собрать плотнее – воедино.
– А это что? Небось дворец чей? Знать, не ниже, чем царский?
– Это, барышня, торговый купеческий дом братьев Елисеевых – уже лет пять как торгуют.
– Торгуют? Чем же торговать можно в таких хоромах?
– Продовольствие – кушанья да вина всякие, по большей части из-за границы привезённые.
– Так это что ж, навроде как лавка получается?
Возница засмеялся, но не то чтобы, а так, по-доброму.
– Ну, можно сказать и так… Лавка.
* * *
– Ну так а дальше‑то что? А он‑то, кавалер твой, к тебе‑то с уважением был? Нештоль так и не сказал слов сладких да волнующих?
Ольга сгорала от нетерпения, уже заканчивая сервировать стол к ужину. Муж Бобровской вот-вот должен был прийти со службы, а самое главное, чего так ожидала Оленька, так и не прозвучало. Сама‑то она ранее была и на Невском, и в Казанском храме, и в Исаакиевском соборе, и ещё много где, поэтому ей больше бы хотелось знать про амурную сторону Катиного рассказа.
– Оля, вы бестактно нетерпеливы! – Светлана Сергеевна с лёгкой улыбкой упрекнула горничную. – И вообще, что это, помилуйте, за «нештоль»? «Неужели», «неужто», ну или хотя бы «разве».
Катя! А вот это уже вы так дурно влияете на нашу Оленьку.
– Я? Да господь с вами, барыня!
– Так, мы прервались. И всё же, чем закончилось ваше свидание? Не томите нас – мы желаем услышать слова, которые пылкий юноша адресовал вам.
– Ой, да ну вас, барыня… Да за что вы, бабоньки, так бессовестно в краску меня вгоняете?
Катерина, смущённо опустив голову, теребила край платка и уже готова была раскраснеться.
– Ну говорил, говорил… Говорил, что якобы всех краше, и что даже краше любой из дам, что на Невском проживают, а ещё сказал, что влюбился будто.
Тут в дверь позвонили, и Катя спешно решила укрыться у себя в комнате, а Оля, аккуратно поставив последний прибор на стол, пошла открывать дверь. Гаврила Ермолаевич прибыли, как всегда, вовремя.
* * *
Время. Да что ж это за неумолимое явление такое, невозможное для подчинения или хотя бы малейшего контроля?
И вроде бы идёт неспешно, порою даже волочится, а то и вовсе замирает и стоит на месте. И уже можно никуда не спешить, будучи твёрдо уверенным, что всё ещё впереди, всё ещё можно успеть: и ошибки исправить, сделанные когда‑то по неопытности, и останется даже этого самого времени предостаточное количество.
Но вот ещё недавно распустившаяся зелень на деревьях вдруг начинает осыпаться, покрывая всю округу жёлтой листвой, которая скоро укроется белым снегом. И только успеваешь свыкнуться с этой зимней порой, принимая душой и эту вьюгу за окном, и снегопад, мягко и бесшумно опускающийся с неба, а тут уже и апрельская капель с хрустальным звоном и журчанием весенних ручьёв снова заставляет смотреть на мир новым, свежим взглядом.
А время, которого всегда было в избытке, вдруг куда‑то делось, исчезло, ушло, утекло вместе с талой водой, ну а всё что задумывалось – так и не исполнилось, потому как времени, того самого, оказывается, не хватило вовсе. Да как много не хватило‑то…
Луша, которую когда‑то мать на руках принесла из деревни в город, сегодня уже не была такой беспомощной и нуждающейся в присмотре, а, напротив, в своём шестилетнем возрасте она теперь была добрая помощница для крёстной. Марья, надо признаться, за эти пять лет здоровьем своим стала как‑то не очень, но при этом считала, что всё одно лучшие годы свои она проживает сейчас подле своей крестницы, да и вообще, кажется, на судьбу она жаловаться так и не научилась.
В доме Бобровских за это время ничего особо значимого не случилось. Каждый был занят своим делом, а для скуки особо‑то и не было того самого времени – в пору бы с заботами управиться.
Анастасия тоже не отставала: окружённая опекой со всех сторон, девочка росла всё же скромной да послушной и лицом всё больше походила на свою маменьку, или, как всегда настаивала сама Бобровская, «maman». Когда Анастасии исполнилось три с половиной года, Светлана начала самостоятельно приучать дочь к изучению французского языка, которым, надо заметить, сама владела в совершенстве. Девочка оказалась смышлёной и до обучения охочей – освоение другого языка для неё оказалось не слишком сложным.
Лето 1913 года выдалось удачным – дождей было не так много, и привычные прогулки в Александровском парке совершались регулярно. Вот и теперь, пока Анастасию на время увлекла огромная, засаженная различными цветами клумба, Светлана Сергевна и Катерина присели в саду под тенистым тополем на изящную скамейку с причудливо изогнутой спинкой.
Погода была хорошая.
Тихо…
– Катя, а вы читать‑то умеете? Грамоте вы обучены?
– А то как же! Чай, и мы не хужее остальных‑то будем, коли надо‑то.
Светлана Сергевна протянула Кате небольшую книгу в коричневой обложке.
– А ну, почитай мне!
Катя взяла увесистый томик и острожно положила на колени.
– А вы что же, сами‑то разве ж и не читали?
– Так если бы я читала, зачем бы я её с собой взяла? Чай, у супруга моего полный шкаф разных книжек имеется, и даже больше.
Неграмотная Катя открыла книгу и упёрлась пальцем в буквы.
Рассказала Катя и про кузнеца Василия, который вот так вот запросто однажды взял да и поднял гружённую зерном телегу и держал её до тех пор, пока мужики заломанное колесо не сменили.
Заодно рассказала Катя и про блаженного дурачка Андрейку, который у дверей храма на Троицу раздавал копеечки купцам и богатному чиновному люду. И где он их только набрал столько, дурачок‑то? Сам босый, в лохмотьях, а из всего добра на нём – только крест, добелá затёртый, на засаленной верёвке. Богатеи отпихивались, купцы сторонились, а он, блаженный, знай, тешится да монетку в руку вложить пытается. А один хмурый бородатый купец Орехов – тот, что приводил обозы с рыбой в Санкт-Петербург, – принял копеечку у Андрейки и в пояс ему за то покланялся. А всем рядом стоящим похвалился, что, мол, сам Бог его копеечкой одарил, и бережно убрал её в потайной карман, к сердцу поближе. Народ, быстро смекнув что к чему, потянулся: «И мне, и мне, Андрейка, и мне копеечку дай! Умилостиви, родимый», – а Андрейка рассмеялся и, бросив жмень медяков прямо на мостовую, убежал, размахивая над головой голыми руками.
Народ с криком кинулся на колени, словно воробьи на горсть брошенного зерна, подбирать копеечки с земли, что бросил блаженный. Купчихи в нарядных платьях, чиновники в дорогих сюртуках ползали у ворот храма и подбирали мелочь, а купец Орехов, молча ухмыльнувшись в бороду, надел картуз да и пошёл себе.
А на следующий день прошёл слух, что Андрейка помер – в ту же ночь у ворот храма так и преставился.
Светлана Сергеевна всё это время внимательно с интересом слушала – когда улыбалась, а когда грустила.
– Вы что ж это, Катя, всё в книге вычитали?
– Ну да. Понравилось вам, барыня?
– Понравилось. Давайте сюда книгу.
Катерина уверенно закрыла книгу и посмотрела на Светлану Сергеевну. На книге большими буквами было написано «ГЕРОДОТ».
– Знаете, Катя, я собираюсь с началом осени начать преподавание различных наук для Анастасии и обучение грамоте. Думаю, что моих знаний для этого будет достаточно на какое‑то время. Если желаете, вы можете присоединиться к моей дочери.
– Ну так а мне‑то это уже зачем? Неужели я учёная стану лучше служить, чем прежде?
– Ну тогда дочку свою приводите, или ей грамота тоже не нужна?
– А вот на этом огромное спасибо вам, Светлана Сергеевна, уже коли Лушка моя станет хоть капельку в грамоте походить на дочку вашу, то до самой смерти должница я ваша буду.
Катерина от чувств, забыв о рамках дозволенного, обняла Бобровскую, а слёзы радости скрыть все же не смогла. Светлана заметила, хотя и не подала виду.
Глава
Поколения и годы
Зеркала. Сколько различных эмоций на лицах они видели за свою долгую, порой даже бесконечную жизнь, нередко гораздо длиннее человеческой? Радость и удивление, недовольство и разочарование, а чаще равнодушие и важную строгость, характеры людей и их состояние на какой‑нибудь определённый момент – те настоящие чувства, которые мы иногда желаем скрыть от окружающих. Всё это зеркала не только видели, но и помнят об этом до сих пор – помнят и молчат, преданно храня тайну, понимая, что это тайна. Многие из нас, уверенные в том, что никого нет поблизости, разговаривают с зеркалами, рассказывают о самом сокровенном, задают им вопросы, а те слушают. Слушают внимательно, не перебивая, слушают и не отвечают, а может быть, и отвечают что‑то навроде того, мол, ну ты же и сама всё прекрасно видишь – немногословный и убедительный ответ на все вопросы.
Мне порою кажется, что зеркала замолкают только с возрастом. Взрослея, они становятся с каждым годом всё молчаливее, а вот в детстве они более дружелюбны и готовы бесконечно веселиться и смеяться без устали с каждым, кто пришёл к ним в гости.
Луша вот уже долгое время не отходила от большого зеркала, встроенного в самую середину платяного шкафа, который стоял на квартире у крёстной. Шкаф только так назывался – платяным, на самом деле внутри себя он хранил всё то нужное и необходимое, что Марья в него бережно складывала: простыни и наволочки, покрывала и скатерти и многое другое, а не только платья.
Сегодня Луша собиралась идти с мамкой в гости – для знакомства, да не куда‑нибудь, а в большой и красивый дом, где живут только важные и богатые семьи, «которых Господь любит так же, как и всех остальных, но внимания им уделяет почему‑то чуточку побольше» – так однажды ответила тётка Марья, когда Луша её об этом как‑то спросила.
Красное платье в крупную клетку, скроенное и пошитое крёстной из новенького отреза ткани, который мамка купила в «Мануфактурной лавке купца Филиппа Горбунова» специально для такого случая, девочке очень нравилось. Она вертелась перед зеркалом, как бы хвастаясь и демонстрируя тому свою обнову, а зеркало одобрительно улыбалось в ответ, полностью разделяя настроение маленькой модницы. Очень хотелось выскочить во двор в новом платье и показать всем этакую красоту – и соседкам, вечно сидящим на скамейках, и ребятам со двора, и даже Миколке, который постоянно находился где‑то неподалёку. Хотя, скорее всего, Миколке‑то будет это совершенно безразлично – ну и пусть! Похвастаться хотелось перед всеми и перед ним тоже, но Марья не велела выходить в новом платье во двор, а сидеть дома до прихода матери.
Катерина пришла за дочкой сразу же после обеда и, взяв Лушу за руку, повела её в сторону Большого проспекта, чтобы потом, минуя Пушкарскую улицу, через Большую Введенскую выйти на Кронверкский и, пройдя вдоль по аллее парка, свернуть к дому Цеховой. Девочка шла рядом с матерью, и ей хотелось, чтобы все идущие мимо заметили, ну или хотя бы просто окинули взглядом, обратили на неё внимание.
– А ну стой, это ещё кто с тобой?
Большой важный человек в форменном мундире, но почему‑то с невероятно добрым лицом, рукой преградил им вход в парадную.
– Ой, да ну вас, Матвеич, ребёнка мне напугаете – чего расшумелся‑то?
– Ничего, ничего, – добродушно ответил старый швейцар. – Так это, значит, и есть дочка твоя? Ну что ж, славная!
Матвеич смотрел на Лушу как‑то мягко, более дружелюбно, чем обычно, с умилением. Так смотрят старики на своих внуков, утешая себя тем, что жизнь их не прошла даром, а, напротив, принесла хорошие результаты и начатое далеко не ими продолжится и далее, а значит, всё было как надо, всё было не зря.
– Ты кто ж такая будешь?
– Луша я, Ложкина – это фамилия такая у нас, ясно?
– Теперь ясно.
– А у тебя, дядечка, какая фамилия?
– Пойдем, дочка, пора нам, – вмешалась Катерина, понимая, что подобная беседа может закончиться не скоро.
Девочка, уводимая матерью в сторону двери, обернулась, махая рукой раздобревшему Матвеичу, немного, совсем чуть-чуть обеспокоенная тем, что новым платьем похвастаться так и не удалось – забыла.
Как же всё‑таки это легко и почти мгновенно у них получается, с какой простотой и непринуждённостью они умеют находить общий язык – люди, между которыми разница в возрасте, без малого два поколения.
Мы, взрослые, для того, чтобы понять друг друга, тратим огромные силы и часто впустую, растрачиваем себя на поиски нужных слов да так и не находим. Пытаемся приблизиться, но в результате, едва коснувшись, отдаляемся, отталкиваемся друг от друга, как бильярдные шары. А ведь мы, взрослые, в большинстве своём немало образованные люди, а они – нет, напротив, не тратя попусту время на то, чтобы казаться лучше, чем они есть, не выбирая необходимых, казалось бы, фраз, старики и дети тут же находят эти заветные точки соприкосновения, и общение между ними практически всегда рождает у обоих неподдельный интерес и удовлетворение.
Короткая пауза, длившаяся не более полуминуты, казалось, что не закончится никогда. Это потом, после, спустя годы, Лукерья усвоит для себя, что обеспеченные, знатные люди в дорогих нарядах, живущие в больших, просторных и красивых домах, точно такие же, как и она, и ничем не лучше, а некоторые даже и много хуже, но для этого должно пройти немалое время, а пока…
Заворожённая Лукерья смотрела на Бобровскую снизу вверх, широко раскрыв свои серые глаза, почти не моргая.
Высокая и утончённая фигура Светланы Сергеевны показалась ей эталоном женского совершенства. Тщательно расчёсанные волосы были собраны сзади в небольшой пучок и закреплены невидимой шпилькой; строгие по своей красоте черты лица выражали сдержанность и манерную стать; острый нос был несколько длинноват, но вовсе не портил её, а, напротив, подчёркивал происхождение; тонкие белоснежные и хрупкие руки привычно держали какую‑то книгу, а аккуратно отглаженный подол чёрной юбки, казалось, вот-вот коснется пола. Расправленные плечи и осанка только подтверждали в этой женщине принадлежность к знатному роду.
– Так вот ты какая, Лукерья!
Луша, оробев, перекинула взгляд на мать, в надежде на защиту.
– Ну, что ты испугалась, отвечай.
Луша только смогла утвердительно кивнуть головой – в горле всё пересохло, и язык как будто прилип где‑то там, внутри.
– Анастасия, – не меняя интонации, Бобровская позвала дочь, которая всё это время стояла у неё за спиной, лишь изредка ненадолго выглядывая из любопытства.
– Ну что же ты, иди, встречай гостью, а то не ровён час узнают в свете о том, как ты дурно гостей принимаешь.
Худенькая девочка в светло-сиреневом платье подошла к Лукерье.
– Позвольте представиться – Анастасия Гавриловна Бобровская, дочь полицмейстера Бобровского Гаврилы Ермолаевича. Прошу вас пройти и быть нашей гостьей. – Анастасия чуть присела, слегка взявшись ручками за подол платья, манерно склонив голову.
Луша стояла, как не своя, боясь пошевелиться, по спине сбежала капелька пота и скатилась вниз, оставив после себя влажный след.
Анастасия обернула голову к матери:
– Maman, а можно я покажу ей свою комнату?
– Сделай милость. Надеюсь, что Лукерье понравятся твои апартаменты.
– Mersi, maman.
– De rien.
Анастасия Гавриловна взяла Лушу за руку, и девочки удалились, а напряжённая и неловкая ситуация исчезла сама собой.
* * *
В тот вечер Марья впервые за столь долгое время снова осталась совершенно одна. Сегодня Катерина увела от неё не только свою дочь, её крестницу, она забрала с собой и все прилагающиеся заботы и хлопоты – то самое необходимое, что делало жизнь тётки чем‑то нужным, значимым и осмысленным для самой Марьи.
Нет, к вечеру они, конечно же, вернутся обратно, непременно вернутся, но этот первый уход из дому был началом расставания на долгое время, может, даже навсегда. Марья это поняла сразу.
Обучение грамоте, обещанное Бобровской, – это, конечно, дело нужное, необходимое и жизненно важное, девочка непременно должна была использовать этот шанс, не иначе ниспосланный свыше. Но Марья – как же теперь она? И что же прикажете делать ей, как быть дальше?
Женщина сидела за столом вот уже несоизмеримо долго, слушая шаги настенных ходиков. После Лушиного ухода она не занималась привычными делами по дому, хотя таковых бы и нашлось немало; не стала готовить ужин, даже для себя, а ограничилась чаем, хотя налитый стакан стоял на столе давным-давно уже остывший – Марья к нему так и не притронулась.