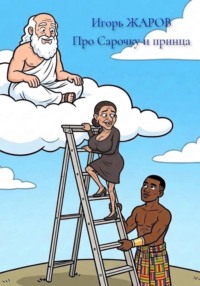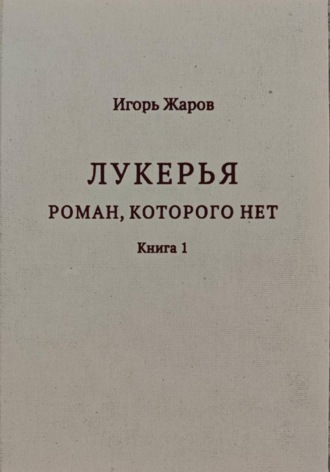
Полная версия
Лукерья. Роман, которого нет

Игорь Жаров
Лукерья. Роман, которого нет
Глава
Лукерья
Роман, которого нет
Книга 1

Дочерям Петербурга
А давай встречаться каждый год
На мосту, где Клодтов конь
Копытом воздух бьёт?
Где свободу держат за ремни
И в Фонтанку падают огни.
Где Нева гранитный носит фрак –
Мы швырнём в неё монетой, просто так.
Жаркий день расплавит горизонт,
Ливень спросит:
– А зачем вам зонт?
Мы будем мокнуть под дождём и вытираться ветром,
По Невскому пойдём пешком, сменяя километры,
И на Большой Конюшенной, в Пегасовой аллее,
Усадят липы нас на мокрые скамеи.
У Спаса на Крови свернём направо,
Где сад Михайловский помашет нам дубравой.
В дом Зингера на кофе?
Нет, там очередь, как у околицы забор.
За столик у окна, где за стеклом собор.
Тогда в кафе, в музее Фаберже?
Двойной эспрессо?
Ну конечно же.
На Караванной дом с парадной на углу
Всё так же строг.
И дама, что жила здесь некий срок
Лет сто назад.
А память
С балкона лик её сняла и спрятала в партер.
Но мы пришли и время ожило:
Bonjour, madame Esther.
Смеркается, но не темнеет.
Бал.
На белый танец приглашает ночь,
Вальс на Дворцовой нежно зазвучал –
Со мной танцует Петербурга дочь.
Кто с розой Петропавловской знаком,
Тот не забудет эти вечера.
Разведены мосты и
Спать легло метро,
А я с Московского уехал во вчера.
От автора
Бытует мнение, что самыми интересными произведениями в литературе считаются недописанные романы. Благодаря их незаконченности каждый может позволить себе мысленно дописать то, о чём умолчал автор: пытливый читательский ум часто старался дописать и до конца раскрыть «Тайну Эдвина Друда» Чарльза Диккенса, кто‑то «доставал из огня» сгоревший том Николая Васильевича Гоголя – да много всякого интересного происходило с незаконченными произведениями.
Есть три основных причины, по которым романы остаются недописанными:
Первая – автор умер.
Вторая – умерли время или эпоха, и роман стал неактуален, потому что проблема, которую раскрывал автор, решилась сама собой за время написания и перестала быть проблемой.
И третья причина – это когда автор испугался своего произведения.
Казалось бы, чего там… А в процессе написания автор вдруг осознаёт, что взвалил на плечи непосильную ношу. Такой пример литературе известен: роман Максима Горького «Жизнь Клима Самгина» остался недописанным именно по этой причине.
Друзья, дорогие мои, сегодня я тоже испытываю робость перед своим даже толком не начатым произведением. Четыре написанные главы из… (а я и сам пока не знаю общего количества этих глав), на которые было потрачено больше года (не очень‑то уж и усердного письма), заставили меня задуматься: а надо ли это вообще писать? Ну напишешь, и что? Издавать такую книгу нужно тиражом не больше чем один экземпляр, потому как подобным забиты все полки, которые только можно себе представить.
Но годы хоть и так себе, а всё‑таки прожиты, и написанное сжигать жалко (нет, всё‑таки далеко мне ещё до Гоголя), поэтому каждый выходной на твой суд, читатель, я продолжу выкладывать по одной части неопубликованного ещё материала.
Так что же будет?
А будет путешествие по Петербургской стороне города на Неве в самое начало двадцатого столетия: мы пройдём по улицам, заглянем во дворы и, конечно же, в Александровский парк. Поэтому, кому интересно, милости прошу в следующую субботу с утреца.
Все приходите, всем буду рад.
– Переборов! Есть Переборов?
– Да! Здесь я, доктор, кто?
– Тройня у вас, Переборов, поздравляем!
– Опять?..
– Матрёшкин!
– Тута.
– Девочки у вас, Матрёшкин.
– Как девочки?
– Двойня. Близняшки.
– Лесов!
– Лосев. Я Лосев.
– Мальчик у вас, Лосев. Правда, негр.
– Какой ещё негр?
– Какой, какой… Чёрный!
– Счастливчик, повезло.
– Это ещё почему?
– Всего один – хлопот, считай, никаких.
Глава первая
Глава
Катерина
Везение. Такое приятное стечение обстоятельств, зачастую неожиданное или внезапное, переживал каждый из нас. Каждому приходилось хоть раз в жизни слышать в свой адрес это слово, сопровождаемое интонацией лёгкой зависти, – «повезло!».
Повезло Эдмону Дантесу в том, что аббат Фариа слегка ошибся в расчётах.
Повезло Петру Гринёву, что у Пугачёва память на лица хорошая.
Повезло и Лукерье в том, что она, Лукерья, родилась недоношенной и пришла в этот мир на два месяца раньше положенного срока. Ведь кто знает, как бы сложилась жизнь Лушеньки, если бы всё шло согласно штатному расписанию.
Отец Луши не стал дожидаться появления на свет своей дочери, а сразу, как только у жены начались роды, отправился в трактир праздновать, посчитав что здесь, в своём доме, в данную минуту он будет совершенно лишним – среди повитух и прочего бабья.
– Ступай себе с Богом, касатик! Всё, что от тебя требовалось, ты уже сделал, а дальше уж мы как‑нибудь сами, – сказала соседская старуха Агафья и, перекрестив в спину через порог, закрыла дверь в избу.
Назад он уже не вернулся – ни поздно заполночь, ни на следующее утро. А на третий день пришёл в дом городовой из города и сообщил, что батьку ихнего, Семёна Даниловича Ложкина, убили по пьяному делу – зарезали в тот же день прямо в трактире – и что тело вот-вот должны привезти прямо к дому.
А в утешение добавил, что, мол, виновный задержан и непременно понесёт заслуженное наказание по всей строгости.
Уж и не знаю, что там промеж них было, а только Катерина, жена, а теперь уже, получается, что и вдова, с горя слёз лить да белугой выть не стала, а молча выслушав известие, постояла ещё маленько да и пошла в дом готовиться к похоронам.
Городовой, несколько удивлённый такой реакцией, молча проводил её взглядом и, вздохнув, отправился в обратную дорогу.
Да и какое его, собственно, дело: чужая душа, как известно, потёмки – в неё ведь со свечкой‑то не залезешь.
Схоронили Семёна в тот же день на местном кладбище, недалеко за деревней. А после сорокового дня Катерина кое‑как обухом топора забила вход в избу, закрыла ставни и, собрав только самое необходимое, взяла Лушу на руки и ушла из деревни в город в поисках лучшей доли.
В городе она перво-наперво зашла на Большую Разночинную к двоюродной тётке своего покойного мужа, зная, что та живёт совершенно одна, и рассказала ей о гибели её племянника, а заодно и попросилась на постой на первое время:
– Одна бы я ещё ничего, сдюжила, а вот с дочкой, боюсь, непросто мне будет устроиться.
Тётка, давно уже немолодая, но всё ещё крепкая женщина, оказалась на редкость сговорчива, хотя плату за проживание, хоть и небольшую, а всё же назначила:
– Деньги‑то у тебя есть?
– Да, есть на первое время. Может, Бог даст, так и к делу какому приладиться удастся, а? Я и на кухню и на стирку согласная.
– Ты, Катька, вот что: завтра походишь да поспрашиваешь что да как, а сегодня с дороги ты, намаялась, да и не следует тебе в город – эдак вот! – тётка неодобрительно кивнула на многократно заштопанную кофточку поверх тёмного платья из суровой ткани, надетую на Екатерине, – нету у тебя чего повеселее‑то? Чай, в столицу пришла, а не на скотный двор – тут людей по одёжке привечают.
– Ой, нету… Так, может, я завтра на базаре куплю?
Далёко у вас базар‑то?
– Ты вот что, девка: коли копейку в руках удержать не умеешь, то зря ты сюда пришла – и сама пропадёшь, и дитё погубишь. Пойдём-ка лучше в моём приданом поищем: где надо ушьём, а где – расставим, глядишь, что‑нибудь и подберём. Я-то уже своё отфасонила, а тебе, может, и сгодится.
Луша всё это время смирно лежала на тёткиной кровати, закутанная в лёгкое одеяльце, и, кажется, изо всех сил старалась не мешать матери своими криками да капризами.
Весь оставшийся день женщины подшивали да подгоняли более-менее подходящую для города одёжу до тех пор, пока свет с улицы работать позволял.
А между делом, чтоб не так скучно было, тётка расспросила Катерину про жизнь в деревне, да не то чтобы из любопытства, а так, промежду прочим.
Да вот только племянника своего, Семёна, почему‑то даже и не вспоминала. А может, не захотела вспоминать, и Катя тоже решила, что не нужно этого вопроса до поры трогать.
– Дочку‑то окрестила ли?
– Нет пока – не успела ещё.
– Нехорошо. Окрестить бы надо. Завтра на меня её оставишь? С собой‑то брать несподручно будет.
– Ага.
На следующее утро, оставив дочку с двоюродной тёткой, из парадной дома номер девятнадцать, который и по сей день стоит в самом конце улицы Большая Разночинная, вышла молодая женщина, одетая в светло-голубое платье в мелкий белый цветочек размером с вишнёвые лепестки. Длинные рукава и глухой ворот на платье были застёгнуты на белые пуговицы.
Тётка, конечно, предлагала другие, в тон самому платью, но Катя настояла на этих, белых:
– Ну и пущай, что видно! Чай, ведь пуговка – она тоже каких-никаких, а денег стоит?
Заправив выбившийся локон под косынку и разгладив руками передник из суровой плотной ткани поверх платья, Катерина направилась в сторону Большого проспекта в поисках работного места.
С утра, конечно, было несколько свежо, но совсем не зябко.
Дождь, по-видимому, прошедший в ночь, давно закончился, прибив пыль на улицах, и дворники без опаски обметали тротуары, собирая грязь в небольшие кучи по краю булыжной мостовой. В этот год бабье лето выдалось на зависть солнечным и тёплым – грех жаловаться.
Булыжная мостовая Большого проспекта, как панцирь гигантской черепахи, аккуратно разрезанный нитями трамвайных линий, расстилалась от края до края и уходила так далеко, что и взглядом‑то не достанешь.
Трамваи, пока что ещё на конной тяге, неспешно, со скрипом передвигались по мостовой, при этом демонстрируя свою необходимость, а фонарные столбы, как корабельные мачты, стоящие по центру проспекта, больше напоминали городовых на своём посту, следящих за соблюдением порядка на улице.
Дойдя до Большого проспекта, Катерина остановилась, чтобы осмотреться. Куда идти, она, конечно же, не знала. Но её это особенно не пугало – чай, мир не без добрых людей, а за спрос, как известно, денег не берут.
Завидев неподалёку дворника, который обметал тротуар, Катя направилась в его сторону:
– Дядечка, дядечка!
Узкоглазый старик в тюбетейке, немного расстроенный тем, что его оторвали от дела, не дожидаясь вопроса, указал рукой в обратном направлении:
– Туда ходи. Туда, туда… Туда ходи!
– Ой, да ладно! Уж коли б знала, то и унижаться бы не стала тут перед вами!
Раздосадованная Катерина развернулась и молча пошла, куда ей указал пожилой дворник.
Навстречу шёл человек в солдатской шинели без погон и на костылях. Нога у солдата была всего одна. Огрубевшая кожа на его лице потемнела то ли от холодных ветров, а то ли от копоти войны, и только пышные усы по-прежнему молодецки были подкручены кверху.
– Дядечка, а вы не подскажете, где здесь на работу устраивают?
Служивый остановился и посмотрел на Катю живыми карими глазами:
– Не знаю, красавица!
– Аааа, тогда ладно…
– Слышь, красавица, а у тебя случайно табаку нет? Ну или махорки?
– Нету, дядечка, некурящая я.
– Нету, значит, – вполголоса, еле слышно проговорил солдат и, опираясь на костыли, зашагал дальше. А Катерина, перейдя проспект, медленно пошла по своей надобности.
Глава
Светлана Сергеевна
В городе Санкт-Петербурге давно, ещё при царе-батюшке, упокой Господь его душу, по Каменноостровскому проспекту, что совсем рядом с Александровским парком, в доходном доме мадам Цеховой во втором этаже проживала семья одного из полицмейстеров города Бобровского Гаврилы Ермолаевича.
Сам Гаврила Ермолаевич был назначен на эту должность, надо сказать, совершенно неожиданно – в результате крупной реформы, прошедшей совершенно внезапно в рядах царской полиции; и к обращению в свой адрес «Ваше высокородие» ещё совсем никак не привык и часто смущался.
Апартаменты в доме мадам Цеховой Бобровские занимали совсем недавно и заехали сюда сразу же после назначения главы семьи на должность.
В свои сорок два года, теперь уже «Их высокородие», Гаврила Ермолаевич всё ещё оставался таким же добродушным и тихим, на дух не переносящим не то чтобы ругани или же скандалов, а даже бесед на повышенных тонах. Воспитанный в родительской любви и излишней нежности, чрезмерно упитанный при невысоком своём росте Гаврила Ермолаевич отдавал предпочтение семейному уюту и близкой дружбы ни с кем старался не заводить.
После службы, которая состояла, в основном, из написания бесконечных отчётов вышестоящему начальству, а точнее, на имя градоначальника, он всегда спешил домой к своей молодой жене, к которой относился трепетно и с душевной нежностью.
Светлана Сергеевна, жена Гаврилы Ермолаевича, была напротив дамой со всех сторон приятной наружности, а в манерах и этикете ей могла позавидовать любая другая, кого и не вспомни для сравнения.
Выше своего супруга больше чем на голову, она ловила восторженные взгляды встречных мужчин, когда они с мужем прогуливались по парку под ручку, что вызывало гордость у самого Гаврилы Ермолаевича.
Кроткая и покорная воспитанница женского пансиона Светлана Озерская, ограждённая от внешнего мира на время обучения, так и не сумевшая устроиться в жизни после выпуска, уже было отчаялась найти своё счастье, как вдруг судьба ниспослала ей милость Божию.
Гаврила Ермолаевич Бобровский, потомок хоть и не богатой и не знаменитой, а всё ж таки знатной фамилии, прибыл с визитом в дом Озерских по поводу намерения взять в жёны их дочь, которой уже тогда было аж целых двадцать семь лет, и получить разрешение прислать сватов. Он убедил маменьку будущей супруги в том, что не далее как месяц назад получил очередное повышение по службе и теперь может позволить себе достойно содержать Светлану.
Озерские же, наведя справки через знакомых, которые в свою очередь так-же осведомились по знакомству через своих знакомых, утвердившись в полной порядочности не только самого Бобровского, но и в безупречной репутации его родителей, от которых на тот момент и осталась разве что только светлая память, с Гаврилы Ермолаевича взяли в довесок ко всему ещё и честное слово о благородстве его намерений. Слово было дано в обмен на одобрение, и венчание состоялось.
После свадьбы муж забрал Светлану Сергеевну к себе, но не одну. По настоянию родительницы помимо незавидного приданого вместе с молодой женой Гаврила Ермолаевич привел в свой дом и Марфу – старую няню, которая с пелёнок вырастила не только его новоиспечённую супругу, но и даже её маменьку.
Марфа была слаба глазами и уже давно глуха, как тетерев. Она засыпала при любом удобном подвернувшемся случае, но любовь и привязанность молодой Светланы к заботливой и преданной няне взяли верх, и Бобровский возражать не стал.
В скором времени, но согласно всем положенным срокам, Светлана Сергеевна забеременела, и это было принято как добрый знак, ибо Господь сам решает, в какой час и каким событиям суждено состояться.
Утром полицмейстер Бобровский отправлялся на службу в Управление Царской Полиции, а Светлана Сергевна спустя некоторое время в сопровождении Марфы отправлялись в Александровский парк на прогулку. А вечером все собирались за столом, и за ужином Гаврила Ермолаевич часто рассказывал забавные истории, произошедшие на службе.
– Вот не далее как с неделю тому назад, – начинал Гаврила Ермолаевич, усевшись за стол и заправляя за ворот столовую салфетку, – на улице Барочной, что находится по обеим сторонам реки Карповки, опять было совершено злодейство.
– Неужели снова убили кого?
– Да пóлно, Господь с вами, душа моя, Светлана Сергеевна! Убийство – это есть деяние жестокое, и коли бы таковое случилось, то я бы, будьте уверены, уж не стал бы вам его рассказывать за столом и вас, душа моя, тем самым заставлять тревожиться.
– Так что же всё‑таки случилось, Гаврила Ермолаевич?
– А случилось, Светлана Сергеевна, разграбление конфетной лавки господина Трюфели́.
Один незадачливый подросток по фамилии Скудоумов решил отметить своё совершеннолетие в одной из рюмочных, коих на Барочной находится превеликое множество.
Впервые употребив водки, захмелевший юноша отправился было восвояси, но нарядная витрина господина Трюфели привлекла его внимание. Скудоумов, находившийся во хмелю, – много ли сорванцу надо? – решил полакомиться сладостями: разбил витрину камнем, набрал полные карманы конфет да и был таков!
– И что же, неужели сбежал озорник?
– Так в том‑то всё и дело, что сбежал он ровно до первого закоулка, а далее, уверенный в своей проворности, направился не спеша к себе домой и по дороге ел эти самые конфеты. А обёртки на землю кидал – его в ту же ночь по этим конфетным фантам городовые‑то и сыскали.
– Так что ж теперь, неужели тюрьма его ждёт?
– А что ж вы хотели? Чай, возраст в аккурат позволяет. Как ни крути, а проступок налицо – факт! Но я, правда, подал прошение на имя градоначальника, в котором предложил их высокопревосходительству обратить внимание на этот инцидент: уж коли парень покается, то пусть ему предложат подать добровольное прошение в солдаты. Всяк государству польза будет. А из тюрьмы, как известно, ни одного ангела ещё до сих пор не вышло.
Глава
Встреча
Александровский парк, в котором так часто гуляли Светлана Сергеевна с Марфой, стал первым публичным местом отдыха горожан. Названный в честь первого императора Александра, обустроенный во времена первого императора Николая, парк уже, кажется, не имел права быть хоть в чём‑то вторым. Размах красоты и великолепия, представленный перед народом, привлекал к себе внимание хозяев и гостей Петербурга: каждый старался прибыть сюда непременно целым семейством и не спеша пройтись по парковым аллеям среди огромного разнообразия вроде бы обычных, казалось, деревьев, но засаженных на особый английский манер.
Посетить это место считалось хорошим тоном, а заодно можно было и потешить себя надеждой, что во время прогулки навстречу, вот так вот запросто возьми да и выйди какой‑нибудь Их сиятельство в сопровождении супруги. Или даже сам (чем чёрт не шутит, пока Бог спит) Его Императорское Величество со своим семейством.
Кокетливые липы и модники-клёны росли вперемежку со строгими, по-военному чинными дубами и застенчивыми кудрявыми берёзами, что создавало впечатление дикорастущего сада – будто бы и не вмешивался сюда человек, а токмо природа сама разбросала насаждения по собственной прихоти.
Огромное множество различных кустарников, среди которых посетителей могла встретить сирень или парковая роза, заставляло горожан на время сбежать от суеты каменного города и укрыться в сказочном парке.
Достаточное количество лужаек, довольно просторных размеров для удобства, были оборудованы большим количеством скамеек и даже беседок.
В одной из таких беседок, стоящей в десятке шагов от Кронверкского пролива, который служил когда‑то преградой для подступов к Петропавловской крепости, и разместились жена Гаврилы Ермолаевича со своей няней. Погода с самого утра стояла такая умиротворённая, что женщины, удобно устроившись, первое время, просто молчали, наслаждаясь щебетанием птиц, и смотрели на потемневшую воду, на поверхности которой обречённо плавало уже достаточно большое количество пожелтевшей листвы, опавшей с близстоящих деревьев или принесённой ветром накануне.
– День сегодня прямо такой радостный, – прервала молчание молодая Светлана, – и воздух вроде особенный…
– Так дождь, ягодка моя, ночью пыль‑то прибил к земле, знамо дело – чище стало. А зима придёт, и того свежее многократ будет. А то как же?
Свернув с Большого проспекта на Гулярную, Катерина, поочерёдно захаживая в различные заведения в поисках трудового найма, более чем через час вышла на Кронверкский проспект, который дугой своей, словно рукой любящего родителя, заботливо обнимал тот самый парк с внешней стороны. Пыл поутих, а досада после многократных, не увенчавшихся успехом попыток найти хоть какую‑то работу в столице в первый же день, осадком села на душе, и притомившаяся женщина решила укрыться в парковой зелени, чтобы перевести дух. Не имея при себе ни одного рекомендательного письма, ни доверительной записки, ни личного документа, которые, верно, могли бы поспособствовать в достижении задуманного, Катя неспешно брела по краю аллеи парка вдоль Кронверкской дуги. Время незаметно опустилось к вечернему, и теплый солнечный день сменился весьма ощутимой прохладой. Серое осеннее небо нависло над огромным городом, и мелкий дождь заморосил над Александровским парком, покрывая мокрыми точками и так не до конца просохшую с ночи почву – обычное дело.
Заметив торговца в глубине парка, который за весьма недешёвую цену предлагал гулявшим различные сладости, Катерина вдруг вспомнила, что за весь день она так ничего и не съела, если, конечно же, не считать утреннего чая перед уходом, выпитого второпях ещё в доме двоюродной тётки.
Подойдя к небольшой лавке, женщина разочарованно рассматривала различные пирожные и конфеты, понимая, что это совсем не то, чего бы она хотела приобрести. Румяный калач или бублик, да пусть даже кусок обыкновенного хлеба был бы сейчас более кстати, но ничего похожего поблизости Кате на глаза не попалось, а возвращаться назад в небольшой магазинчик, торговавший выпечкой на углу Гулярной и Кронверкского, она не хотела, потому как было далековато и не с руки.
– Купи, красавица, пирожное, или же конфету загранишную, хочешь? Всё самое вкусное, всё самое свежее перед тобой, – расхваливал свой товар лавочник.
Это был средних лет мужчина – где‑то годков на десять постарше её, Катерины, с небогатой, но аккуратно начёсанной бородкой, при картузе и фартуке, надетом поверх светлой косоворотки из грубой, недорогой мануфактуры.
– А что ж, калачей‑то вовсе нету? Или же баранок каких?
– Зачем тебе баранки, деревня? Вот купи конфету французскую, «Труфалье» называется! Домой воротишься – всем хвастаться станешь. Средь бела дня со свечкой весь Петербург обойди – нигде более такого лакомства не сыщешь. А у меня – вот, есть!
Осмотрев предложенный торговцем товар, Катя всё же купила себе петушка на палочке за три копейки, в надежде сладким перебить усиливающийся голод. Всё одно дешевле, чем это, у него больше ничего не было, хотя, признаться, алтын – не такая уж и малая цена за один леденец.
*
* *
Пейзаж перед глазами вдруг ни с того ни с сего пошатнулся и поплыл: листья в проливе, деревья, сам пролив и даже крепость – всё стало вдруг матовым, как будто кто‑то специально подвернул фокус объектива. Силуэты расплывались, потеряв резкость очертания.
Это совсем не больно, только немного страшно оттого, что мозг всё ещё продолжает принимать и оценивать, а вот удерживать контроль отказывается. Беспомощное состояние.
– Эй… Эй, – приглушённо послышалось где‑то не то вдалеке, не то в глубине. Но вот звуки становятся всё ближе и куда отчётливей.
– Ну что вы стоите, мамаша? Машите на неё чем-нито, да вон хоть книгой ентой, что ли…
Светлана Сергеевна медленно открыла глаза. Пелена ещё не прошла, но мутные силуэты начали приобретать различные цвета; было душно, а под языком всё ещё сохранялся сладковатый привкус.
– Здравьичка Вам! С прибытием! Что ж это Вы, красота моя, вздумали тут? Вон и бабеньку Вашу напужали чуть не до смерти.
Какая‑то незнакомая женщина смотрела ей прямо в лицо с близкого, почти вплотную, расстояния. Не старая вовсе, хотя и несколько старше самой её, Светланы Сергеевны.
– Посидите тута пока, я быстро. Нате-ка, вот Вам.
Женщина протянула петушка на палочке, а сама спешно направилась вниз к проливу, снимая на ходу с головы белую косынку.