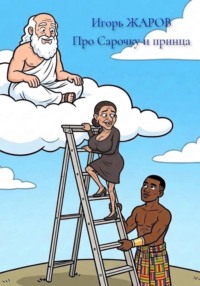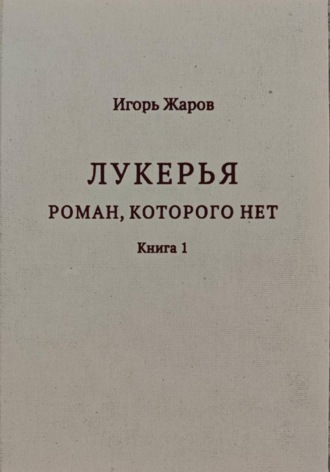
Полная версия
Лукерья. Роман, которого нет
– Да что ж это, Царица-Мать Небесная, Пресвятые Угодники! – Марфа, обеими руками прижимая книгу к своей груди, перепуганно смотрела на Светлану.
– Марфа, кто эта женщина?
– Мимо шла, дай Бог ей здоровья на долгие лета: тебе ж как нехорошо‑то вдруг стало, я Вам «Света, Света», а Вы – ну прямо никакая вовсе стали! С лица‑то прямо и спала вся.
Катерина скоро вернулась, держа в руках мокрую тряпицу:
– Ну вот и хорошо, румянец вертается туда, где ему быть и положено, – приговаривала Катя, обтирая лоб Светлане Сергеевне. – Спужались? Напрасно – это в вашем положении нормальное дело, такое со всякой бывает. Да Вы леденец‑то помалсите, помалсите. Ну как, лучше Вам?
– Да, спасибо, гораздо лучше. Только пить хочется.
– Так, а Вы не побрезгуйте, да губы‑то платком и оботрите. Давайте я Вам пособлю, чай, я только сверху в воду кунала – не должна бы сбаламутить‑то.
Платок и правда был достаточно холодный, и Светлана Сергеевна почувствовала улучшение.
– А то хотите если, я Вас могу до дома проводить, далеко ли Вы проживаете?
– Не очень – в доме мадам Цеховой. Но удобно ли вам будет? Быть может, у вас свои дела какие имеются?
– Да мои дела не убегут – все при мне останутся. Встать Вам помочь, или же сами?
– Проводи нас, дочка, проводи, не бросай уже на полдороге‑то. А я за тебя свечку в церкви поставлю и о здоровье помолюсь, – причитала Марфа, обвиняя себя в собственном бессилии.
За более чем восемьдесят с лишним лет годы сделали из когда‑то лёгкой на подъём крепостной Марфушки невысокого роста худощавую, пожилую женщину с морщинистым лицом, которая, всюду неспешно передвигаясь, всегда опиралась на деревянную трость, когда‑то подаренную ей её же в прошлом воспитанницей – матерью самой Светланы Сергеевны.
Дойдя до дома мадам Цеховой, Катерина уже было собиралась распрощаться с женщинами, понимая, что она им совершенно не ровня. Это заключение Катя сделала, обратив внимание на их изысканные, хотя и неяркие туалеты из дорогих тканей.
– Я бы хотела вас просить подняться и отобедать с нами, – предложила Светлана.
Вот уж воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
Глава
Лёха леди
Лёха Блембенский по кличке Леди был честным вором. Работал Лёха на Петербургской стороне и закидывал руку в карманы прохожих и дамские сумочки исключительно там, где ему заблагорассудится в тот или иной момент: конки, вокзалы, магазины, Сытный рынок или просто людные места, где можно было с легкостью раствориться в толпе – Лёха в шутку называл своими «рабочими кабинетами». Работал Леди исключительно один, что позволяло ему тратить время на собственное усмотрение или по настроению.
Руки щипача – это главный инструмент, а тщательный уход за ними – это страховка от нежелаемого брака в работе, за который расплачиваются не звонкой монетой, а годами собственной жизни.
Гладкие, нежные, с тонкими и длинными, как у пианиста, пальцами кисти рук Лёха холил и лелеял. Каждый вечер строго в одно и то же время молочница приносила Блембенскому на дом трехлитровый бидон парного молока с вечерней дойки, и он до получаса отмачивал свои руки в коровьем молоке. Затем, вытерев насухо махровым полотенцем, втирал в них французские и польские крема, которые приобретал в аптекарской и парфюмерной лавке «Товарищества А. Ралле и Ко», чаще всего под заказ. Кожа на руках от таких процедур была бархатная, нежная и более чувствительная. Не всякая знатная дама могла похвастать такой кожей иногда даже на своём теле. За эти руки Лёха Блембенский и получил себе кличку «Леди».
Воровской закон Леди чтил и уважал. Не желая покрывать своё имя тенью сомнений и подозрений, Лёха всякий раз после работы заходил на адрес к одному доверенному «бобру» и отдавал тому процент от дохода на общее воровское благо.
Бобрами в ту пору в воровской среде называли разумеющих толк в торговом деле людей, которые стояли над барыгами и контролировали их работу. Зачастую большую партию, добытую ворами, состоящую из вещей «мануфактуры» или продуктов, которую необходимо было продать, принимал сам бобёр, а потом уже он и распределял товар между барыгами, которые и должны были обменять его на деньги или золото.
Жизнь Лёха Леди предпочитал вести тихую и незаметную. Он без сожаления растрачивал «честно заработанное», а в кабаках не кутил, да и вообще презирал спиртное, считая, что оно только мешает в работе.
Блембенский занимал на долгий срок комнату в шесть квадратов на первом этаже дома номер девять в Мытнинском переулке, и гостей к себе никогда не звал. Соседи не сразу, конечно, но всё ж прознали про Леди (знамо дело, по догадке своей или же с бабских сплетен), но сильно не расстроились, а, напротив, с облегчением вздохнули:
– Пока он с нами проживает, то и нам за своё добро переживать нечего. Такой сосед понадёжней любого сейфа будет, – судачили между собой старухи.
Но больше всех Лёху Блембенского уважали, конечно же, местные коты и кошки, которым ежедневно доставался почти полный тазик молока. Сами же хвостатые перед Лёхой подолгу в долгу пребывать не желали и неоднократно оставляли ему под дверью недавно пойманную мышь – «вот, мол, ты не подумай чего, мы не на дармовщинку вовсе, а вот – от нашего стола вашему».
Леди это понимал и добродушно подкидывал «подгон босяцкий» Капитоновне, живущей через стенку. Капитоновна трудилась посудомойкой на кухне, и лохматая банда мышиных душегубов иногда получала от неё рыбные обрезки.
Ремесло своё Лёха Леди любил и, практикуя его, доводя до совершенства, всегда испытывал удовольствие от куража и риска.
Значительно обширная по масштабам площадь Петербургской стороны (впрочем, как и всех других районов Петербурга) была поделена между преступниками на территории, где каждый промышлял на своей земле и на соседний участок без разрешения носа совать не смел. Но Леди Блембенский именно этот пункт воровского уговора игнорировал, свободно передвигаясь по всей Петербургской стороне, и только желая поработать в других районах, всегда спрашивал разрешения. Такое самовольство Лёхе позволяли лишь потому, что доля, которую регулярно заносил Лёхин бобёр, всегда была гораздо выше, чем у остальных, да и в гостях Блембенский особо не задерживался.
Воры народ недоверчивый, тут уж ничего не поделаешь – натура у них такая. Поначалу, конечно, у многих было подозрение на то, что Лёха Леди всё одно недостаточно отчисляет процент от своей добычи: что, мол, прячет, умыкает да и ведёт он себя не как положено фартовым людям, а, скорее, как какой‑то прыщавый студент. За Лёхой ставили «тень» – какого‑нибудь малоприметного подростка или же юродивого калеку. Однажды даже наведались к нему в Мытнинский, когда Леди отсутствовал, но, не найдя веских причин, всё же угомонились.
Несмотря на свой мягкий и невспыльчивый характер, что, конечно же, было редкостью в преступной среде, Блембенский всё же обладал волчьим чутьём и без труда замечал своих «провожатых», что вызывало у него больше насмешку, нежели оскорбление на свой счёт.
В общем, репутация у Лёхи Леди была безупречной – не подкопаешься.
А выглядел Леди и правда, скорее, как студент-семинарист, нежели как убеждённый отступник государственного законопорядка. Большие, наполненные светом чёрные глаза, густые, тёмные волосы, зачёсанные назад, почти никогда не сходящая с юношеского лица лёгкая улыбка – он пользовался вниманием женщин, которые были часто несколько старше его. С хорошенькими студенточками или простыми из крестьянского сословия женщинами Лёха Блембенский встреч избегал, потому как у тех нечем было поживиться, а с распутными девками и подавно – тем нужно было ещё и приплачивать. А вот светские замужние и обеспеченные дамы, которые за годы супружеской жизни уже начинали скучать по романтическим сценам и вниманию со стороны молодых кавалеров к собственной персоне, да вдобавок к этому были ещё весьма и весьма не бедны – то уже дело совершенно иное.
Эти пышногрудые и пышнотелые особы и были объектом пристального внимания Леди. А многие даже были и вправду настолько хороши, что Лёха оставался у них на всю ночь и, «сбросив пар», уходил только на следующее утро, естественно при этом не забыв, конечно же, прихватить с собой на память о встрече всё, что посчитается необходимым.
Дамские шкатулки с драгоценностями трещали, как грецкие орехи, после пылких ночей в объятиях Лёхи Леди. Иногда убыток от потерявших голову жён несли и ни в чём не повинные мужья, беспечно оставлявшие часть денежных средств в ящиках письменных столов или же в книжных шкафах. Царские ассигнации Блембенский равнодушно, не пересчитывая, легким движением мягких и нежных рук тут же отправлял в свой карман и покидал гостеприимный дом всегда исключительно по-английски.
Вот и в этот раз, покидая спальню очаровательной Прасковьи Генриховны, жены одного знатного господина, который, поговаривают, водил дружбу аж с самим генерал-губернатором города Санкт-Петербурга, Блембенский, заметив в окне промозглую погоду, предусмотрительно накинул на себя английское демисезонное пальто мужа, висевшее на бронзовой скульптуре в виде фонарного столба и служившего вешалкой.
Выйдя из парадной доходного дома номер двадцать два на улице Большая Дворянская, что принадлежал купцу Г. А. Шульце, Лёха тут же наткнулся на цветочницу, которую, видимо, хозяйка цветочной лавки отправила под дождь на заработок. Та нехотя плелась, неся полную корзину цветов, совершенно не представляя, кому их можно предложить в такое ненастное время. Цветочница – совсем ещё девочка, лет четырнадцати, а может, чуть меньше – зябко ёжилась, закрывая нос от мокрого ветра краем платка. Достав из кармана ассигнацию в десять рублей, Леди купил у девочки всю корзину, но вынув только одну розу, сунул её за пазуху английского пальто и, свернув с Большой Дворянской на Малую Дворянскую улицу, молча, быстрым шагом направился в сторону Александровского парка.
Глава
Осень Петербурга
Назад к тётке на Большую Разночинную Катя вернулась, когда уже легли сумерки, погрузив город в состояние полудрёмы. Но в доме не спали, с беспокойством ожидая Катерину, и как только та вошла в дверь, тётка уже встречала её у порога:
– Долго ты, я уже что только не передумала – не случилось ли чего?
– Ой, да я уж и сама не знаю, как так вышло, а только заплутала я малость. Вроде помню, что туда иду, а дома всё другие да незнакомые. Три раза дорогу спрашивала – спасибо, добрые люди направили куда следовать. Дочка‑то моя хлопот вам много ль доставила?
– Да ну какие с ней хлопоты? Когда надо покормила, когда надо перекутала – вот и все заботы. Да и в охотку мне, старой, опять же – давненько я с детками не баловалась, соскучилась.
А в обедах дождалась я, пока она заснёт, оставила её, а сама скоро дошла до Князь-Владимирского собора, что стоит между Церковной улицей и Александровским проспектом, недалеко от Тучкова Буяна у Малой Невы, да разузнала о том, когда прийти туда, затем чтоб Лушеньку окрестить можно было. Вот как раз на Рождество Богородицы – так лучше повода и придумать нельзя.
– Да я‑то что, я‑то не против – дело доброе, только вот уж и не знаю, как быть‑то теперь? Чай, я тоже не даром весь день ноги била – отыскала всё ж для себя место, слава тебе Господи. Да уж такое ладное, что и боязно даже – не уверена я, что справиться смогу.
– Да что ж это за место за такое?
И рассказала Катерина вкратце, как свела её судьба с госпожой Бобровской, как та сама пригласила её в дом свой отобедать. Как на равных сидела она за одним столом со всей семьёй ихней, и даже Гаврила Ермолаевич сам предложил ей место подле себя. А от денег, которые их благородие опосля предлагать стали, она отказалась. Да не потому что не нуждается вовсе, а потому как не должен никто за помощь ближнему плату взимать. Не по-божески это.
А за чаем расспрашивать стали – кто она да откуда? Зачем в город прибыла и на что рассчитывает здесь обосноваться?
Ну а уж после того как Катя всё как на духу рассказала, то и предложил их благородие Гаврила Ермолаевич взять ей, Катерине, на себя обязанности по присмотру за супругой его:
– Так и сказал, что, мол, «будете навроде „фрельны“ при моей царице». Да не задарма вовсе, а за ежемесячную уплату. Вот только документ всё же принесть да показать надо, а то ж я, разиня, утром метрику‑то свою так и не взяла – забыла.
– Ну так а чё ж тебе, дурёха, боязно‑то? Ишь, какое место подле господ, как у Христа за пазухой, в первый же день нашла – видать, любит тебя Господь‑то!
– Так, чай, знатная дама, Светлана Сергеевна, вся такая… – Катерина плавно развела руками, показывая тётке манерное поведение Бобровской, – это же не кастрюли-сковородки и не таз с бельём. Где она, а где я – вот и боязно!
– Ничего, пообвыкнешься, а то и наберёшься чему, попутно‑то. А за дочку не переживай, без тебя управлюсь. Чай, не чужая – у меня, может, окромя этой крохи и нет никого во всём белом свете. Сама окрещу, сама и крёстная мать буду.
На следующий день Катерина, взяв с собой единственный имеющийся документ – выписку из церковной книги, метрику – отправилась на Каменноостровский проспект к дому мадам Цеховой.
Время было уже не такое раннее, дворники, убрав положенные им территории, уже перестали махать мётлами и просто стояли, подпирая плечом угол дома. Кто‑то задумчиво курил, а многие и вовсе убрались с глаз долой.
Все, кто шёл трудиться, давно уже покинули улицы, заняв собой работные или служивые места, и город выглядел полуопустошённым. Ну разве что изредка где‑то промелькнёт либо извозчик, либо молочница, несущая заказ к назначенному часу.
У бабьего лета срок недолгий: погода быстро спортилась, мелкий и холодный дождь моросил с мрачного, серого неба, на улицах стало холодно и сыро, Петербург медленно начал готовиться к долгой и ветреной зиме.
Укрывшись шерстяным платком, предусмотрительно взятым у тётки, Катерина, обогнув Кронверкский, уже было собралась выйти на Каменноостровский проспект со стороны Александровского парка. Навстречу шёл молодой мужчина на вид чуть больше двадцати, одетый в пальто с недлинными полами, но почему‑то без головного убора. Да Катя бы и не заметила его вовсе – она, спрятав от непогоды лицо в платок, хотела бы поскорей зайти в парадную дома, где проживали Бобровские, но молодой человек протянул ей алую розу, бережно вынутую из-под пальто:
– На, красавица, возьми. Может тебе чуть теплее станет?
Катерина смутилась от неожиданного внимания, но цветок машинально взяла.
– Да не бойся, денег не попрошу, просто настроение хорошее – вот и хочу я с тобой это настроение разделить.
Вручив «хорошее настроение» первой встречной, молодой человек пошёл дальше своей дорогой как ни в чём не бывало, а Катя прижала розу к груди, прикрывая краем платка, и через несколько минут свернула к парадной дома мадам Цеховой. Однако приятный запах, исходивший от прохожего, то ли от одеколона, а то ли от крема, она всё ж услышала даже на улице и при дожде, но значения не придала – было не до того.
Докладывая швейцару, который годился ей в отцы, к кому она и по какой надобности пришла, Катя испытала робость перед этим важным человеком в форменной фуражке с галуном, стоящим при входе.
– Знаю. Ещё с вечера Гаврила Ермолаевич лично в известность посвятили. Проходи.
– Спасибочки, дядечка.
– А ну стой пока. Звать‑то тебя как?
– Катя. Катя Ложкина я, у меня и метрика имеется…
Катерина уже было собралась достать и показать единственный документ, но швейцар слегка махнув только кистью руки, остановил её:
– Пустое, мне это без надобности. А меня Матвеичем зови. Все зовут, и ты так звать станешь – поняла, что ли?
– Поняла, – ответила она и скрылась за дверью парадной.
Опустив розу в изящную вазу, так кстати стоявшую на подоконнике окна лестничной площадки второго этажа, вид из которого выходил на тыльный двор, Катя робко постучала в дверь Бобровских.
* * *
Осень грозной и властной императрицей взошла на престол: зарядили студёные дожди, неустанно заливая город; шквалистый ветер, дующий с залива, проникал в самую душу – он часто ломал, выворачивая наизнанку зонты, отчего те становились похожими на большие десертные вазочки огромных размеров, нежели на цирковой купол в миниатюре. Ветер вырывал из рук прохожих эти хрупкие, утончённые аксессуары, и те, ненадолго взлетая, пускались в самостоятельное путешествие, а падая, неуклюже перекатывались по мостовой.
Несколько позже, когда эти изящные устройства войдут в широкий обиход и станут более доступны, Петербург твёрдо закрепит за собой репутацию «города сломанных зонтов».
Прогулки в Александровском парке становились всё реже, а потом и вовсе прекратились, и Светлана Сергеевна долгое время просто молча стояла у окна, кутаясь в накинутую на плечи мягкую шаль из белой шерсти:
– Катя, может, сходим ненадолго на улицу – дождь вот-вот того и гляди закончится?
– Ещё чего выдумали, барыня! За окном ад кромешный, хороший хозяин собаку на двор не выпустит. Не дай бог, простудитесь – что я тогда мужу вашему, Гавриле Ермолаевичу, говорить стану? И думать нечего!
Марфа поначалу часто ссылалась на недомогание, а после и вовсе слегла.
Катерина хлопотала по дому, стараясь угодить обеим женщинам, и очень переживала за то, что в любую минуту может получить расчёт за ненадобностью. Она по своему разумению думала, что попусту проводит время, и чувствовала себя лишней в доме среди этих людей.
Приглашённый врач, снимая фонендоскоп и убирая его в докторский саквояж, сказал, что он помочь ничем уже не может – видимо, срок, который Господь отвёл старой няне, подошёл к концу.
А к исходу октября, на день Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость», схоронили Марфу на Смоленском кладбище и заказали долгую службу за упокой в Смоленской церкви, стоящей неподалёку.
Фамилию рабы Божией Марфы, как оказалось, так никто и не вспомнил. Да и нужна ли фамилия та, уж коли за всю жизнь она так ни разу и не понадобилась, а для Бога – там и одного имени более чем достаточно будет?
Вечера
Ой люли-люли-люли,
Прилетали к нам гули,
Сели гули на кровать,
Стали гули ворковать.
Негромкий напев смешивался с едва разборчивым перестукиванием вязальных спиц друг о дружку. Женщина устроилась подле окна, недалеко от кровати, на которой лежала Луша, обложенная подушками, – нехитрая додумка мамок, нянек и прочих сиделок, чтоб освободить себе руки.
В комнате было недостаточно тепло, но вовсе не зябко, да и грелка, которую крёстная подложила за подушку, своё дело правила. Дни, походившие один на другой, протекали по-разному: когда летели, как скаженные, а когда тянулись, словно повозка с задремавшим во хмелю извозчиком после трудовых будней, но скучно вовсе не было. Девочка разглядывала комнату, иногда издавая простые для произношения и сложные для понимания звуки – то ли хотела подпеть крёстной вторым голосом, а то ли спросить ту о чём‑то своём.
Нет, на улице во дворе оно, конечно, было куда интересней, тут и спорить нечего. Там и кошки, и собаки всякие, и птицы прилетали разные, да и ветер, если только не сильный, а так, слегка. Всё вызывало эмоции: хотелось потрогать да и неплохо бы было попробовать это на вкус – всё, даже ветер! Но в последнее время во двор стали выходить реже, а если и выходили, то из-за дождей ненадолго. Хотя дождь и потрогать и попробовать тоже было бы нелишним.
Но вот заунылая песня, которую женщина монотонно тянула по очередному кругу, вдруг смолкла, и стук спиц тоже прекратился. Луша, повернув голову, взглянула на крёстную – та спала сидя на стуле, склонив голову на низ.
Короткий звонкий визг разлетелся по комнате прогнав тишину.
– Ну и чего ты, красавица моя, не спишь? Чего колобродишь? Опять мамку ждать станешь?
Ребёнок улыбался, широко открыв рот без единого зуба, и махал руками.
* * *
Леди сидел на кровати у себя в комнате и, зажав зубами папиросу (а курил Лёха исключительно только папиросы), тщательно разглядывал демисезонное пальто. Зажмурив один глаз, в который так и норовил забраться табачный дым, он на ощупь, дотошно просматривал каждый шов, каждую строчку. На изнаночной стороне полы пальто обнаружился штамп английского торгового дома «Crombie».
– Да, знатная вещица! Жаль, что нельзя оставить для форсу, – подумал Блембинский вслух, и, откинув англичанина на рядом стоящий табурет, вынул аккуратно, двумя пальцами папиросу изо рта – уж больно приметная. Надо будет бобру скинуть – пусть продаст.
Пальто и вправду было роскошное, что и делало его весьма заметным: чёрного цвета, не особо длинное, из шотландской шерсти, с бархатным воротником на алой шёлковой подкладке.
Лёха, ещё раз затянувшись, выпустил серо-голубой дым в потолок и разлёгся на кровати, мечтательно заложив обе руки под голову – после сегодняшней работы нужно было немного отдохнуть, ближайшие дня три-четыре Леди на людях появляться не планировал.
* * *
Едет царевич задумчиво прочь.
Будет он помнить про царскую дочь.
Светлана Сергеевна закрыла книгу и повернулась, несколько отойдя от окна, вид из которого выходил на Каменноостровский проспект. Бобровские занимали ровно половину второго этажа в доме фасадного корпуса.
Катерина расставляла обеденный сервиз, помогая горничной накрывать на стол – Гаврила Ермолаевич должны были вот-вот появиться со службы.
– Ну и что вы, Катя, обо всём этом думаете?
– Об чём, барыня?
– О том, что я сейчас прочла, и не барыня я совсем никакая.
– Ааа… Так оно и понятно – всему этому мужичью только одного и надо, все они, как репа с одной грядки. Вот разве что муж ваш, Гаврила Ермолаевич, так тот – нет, он другой – хороший и добрый.
Катя, не отвлекаясь, продолжала сервировать стол, попутно поправляя скатерть. Бобровская, улыбаясь, прикрывала рот томиком Лермонтова – лесть деревенской простушки была куда приятнее заученных и отрепетированных комплиментов со стороны давних, скорее, даже забытых знакомых, с которыми встречаться приходилось чаще случайно, на улице.
– Катя, я вас попрошу с сегодняшнего дня занять место Марфы – теперь это будет ваше место.
Катерина попробовала слегка присесть в знак благодарности, как это часто делала горничная Оля, получая очередное распоряжение, но вышло как‑то скомканно, неуклюже.
Сам Бобровский прибыл как всегда вовремя и, передав мокрый с улицы зонт Ольге, сняв пальто, прошёл в обеденный зал.
– Доброго вечера, почтенные дамы!
– И вам здравствуйте, Гаврила Ермолаевич!
За ужином, после того как каждый занял своё место, Светлана Сергеевна, не нарушая традиции, задала вопрос, который и по сей день беспокоит всех порядочных жён:
– Что нового сегодня произошло на службе, Гаврила Ермолаевич?
– Дерзкое и странное ограбление произошло не далее как третьего дня на Большой Дворянской, где преступник – неясно пока, один или в сговоре с кем – забрался в дом к одному весьма почтенному господину. Положение в обществе, которое занимает этот самый господин, настолько высокое, что я не смею произносить его имени-отчества вслух даже при вас, душа моя, Светлана Сергеевна. Поскольку дело об ограблении было переведено под юрисдикцию жандармерии (тайной полиции), то и расследование будет вестись скрытно.
– От такой строжайшей секретности любопытство невольно разгорается с такой силой, что… Ну расскажите же хоть что‑нибудь, пусть даже без фамильных подробностей!
– Пока мало что известно: непонятно, как преступники проникли внутрь, потому как ни верёвки на крыше, ни лестницы под домом обнаружено не было. Швейцар у парадной божится, что внутрь через него никто не проходил, да и дверь всю ночь была закрыта. До смерти напуганная жена, которая до утра оставалась совершенно одна, даже без единой прислуги, которую сама же и отпустила накануне, толком ничего объяснить не смогла.
– Вот как. Одна. А где же находился всю ночь муж с высоким положением в обществе и без фамилии?
– Муж всю ночь провёл на заседании закрытого клуба, в членстве которого он состоит, и сообщил, что занимался решением вопросов городского совета, поскольку является депутатом данного ведомства. Наши агенты сыскного бюро, прибыв на место, провели осмотр, завели дело, а после и передали его по указанию сверху от самого градоначальника, который является и моим прямым начальством, в Отдельный корпус жандармерии.
– Ну и каково же ваше мнение на сей счёт?
– Я полагаю, что виной всему послужило безнравственное поведение обоих супругов и моральное падение, о которых сегодня всё чаще предпочитают забывать в свете. И думаю, до тех пор, пока жена этого самого господина не прозреет, то и дело будет оставаться нераскрытым.