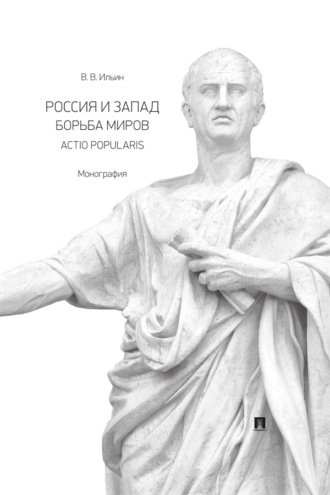
Полная версия
Россия и Запад. Борьба миров. Actio popularis
Вектору вестернизации Восток противопоставил национально-освободительное движение, борьбу за независимость, деколонизацию, не только отвоевывавших державные права, но и восстанавливавших традицию. Освобождающийся Восток предпринял попятные движения от имплантированных к патримониальным, цивильно исходным для себя состояниям. Направляющими демаршей стали трансформации эгалитарного в ранговое, реципрокного в редистрибутивное (последнее просматриваемо в социально-политической динамике бывших среднеазиатских республик СССР, ныне суверенных стран).
В осмыслении данных реалий, возвращаясь к нашим баранам, напомним, что восточная деспотия как стержень воспроизводственного опыта, исключая собственничество, осуществляет самоподдержание за счет рангово-статусной иерархии. Собственность на Востоке – форма власти, владения, конвертирующая по необходимости мощь, силу на богатства, материальные ценности. Восточная власть наследуется, а с ней – через должности, прерогативы, полномочия – наследуется доступ к собственности (на Западе наследуется собственность – но не власть! – как частное право владения, пользования, распоряжения имуществом).
Сообразно такому регламенту социальной кооперации складывается феномен владельческих прерогатив: «одна и та же земля (а точнее, право на продукт с нее) принадлежит и обрабатывающему ее крестьянину, и общине в целом, от лица которой выступает распределяющий угодья старейшина, и региональному администратору, и верховному собственнику»[35]. Никакой множественности прав, никакого плюрализма собственности в зависимости от власти Запад, где выработались четкие частно-правовые каноны, не знал.
Обстановка, чтобы земля была всех вообще и ничьей в особенности, чтобы все, кто как может, получали с нее доход пропорционально власти, изначально исключалась западным индивидуализированным хозяйствованием, рассчитанным на извлечение прямой партикулярной выгоды. Дивергенцию отсеков цивилизации, как видно, обусловливает modus gubernanti – способ отправления жизни. В качестве такового Запад отработал рыночную, частнособственническую, правовую, тогда как Восток – центрально-административную, командно-директивную систему. Организация существования идет на Западе – от рынка, собственности, права; на Востоке – от власти, владения, иерархии (соблюдения статусов).
Некогда единый общинный базис жизни расщепился на несопряженные стези социальности, описываемые оппозициями рынок – власть; собственность – государство; право – приказ. Отсюда, как из основания, вытекают следствия:
а) на Востоке в противоположность Западу нет экономических классов, есть правовые слои и бесправные;
б) на Востоке в отличие от Запада государство стоит над экономикой, над собственностью; примат власти выражается в системе отработок на нее (труд на общих полях, отчуждение части урожая, выплаты) – взимается своеобразная рента, аккумуляция которой позволяет содержать этакратические структуры (государство, храмы и т. д.);
в) правящие слои на Востоке благодаря причастности к властной, государственной иерархии доминируют в экономике – владеют, распоряжаются, распределяют, перераспределяют; такого рода прерогативы на Западе – удел собственников;
г) средоточие социальной интеракции, нерв межсубъективной коммуникации на Западе – интерес, на Востоке – надзор (в Египте при Птолемеях учрежден пост генематофилака – стража урожая, соглядатая – исполнителя приказа о государственном обложении каждого колоска. Ср. с отечественным печально известным законом о пяти колосках);
д) на Востоке в отсутствие субъекта гражданских прав социальное поведение ассюрирует административный произвол, безнарядье властвования; на Западе при наличии субъекта частного права верховодят формальные кодексы, обоюдообязательные (для государства и гражданина) законы;
е) на Востоке, вопреки Западу, нет явного субъекта собственности, общинно-государственная форма хозяйствования влечет иррадиацию владельца средств производства: владеет и пользуется собственностью коллектив производителей, владеет и распоряжается ею (общим достоянием) от имени коллектива административный глава – от старейшины до государя, от храма до государства[36], частная собственность, даже появившись, укрепившись, на Востоке второстепенна, не будучи защищена от произвола власти какими-нибудь привилегиями, гарантиями, свободами, правами[37];
ж) механизм защиты от управленческого беззакония на Западе – гражданское общество, суд; на Востоке – корпорация, вельможная воля;
з) на Востоке законы пишутся от имени и во имя государства, на Западе от имени и во имя лица;
и) на Востоке крепнут вертикальные (субординативные) связи – клиентельные, общинные, клановые, на Западе – горизонтальные (координативные) связи – связи не подчиненных, а потенциальных социальных партнеров, союзников, субъектов самодостаточного равнодостойного кооперирования;
к) на Западе право – гарантия свободы, на Востоке гарантия свободы (автономия от произвола) – статус, место в иерархии власти;
л) эффективность на Западе – производное активности, динамизма, инновационности, мобильности; эффективность на Востоке – дериват реактивности, внутренней устойчивости, стабильности, консервативности. Пафос социальной трансформации на Западе – преодоление прошлого, на Востоке – восстановление его;
м) на Западе время линейно (кумулятивно-прогрессивно), общественная динамика покрывается звеньями цепи: повышательная фаза – сатурация – понижательная фаза (стагнация) – инновация – повышательная фаза; на Востоке время инверсионно (циклично-возвратно), общественная динамика покрывается звеньями цепи: повышательная фаза – сатурация – понижательная фаза (стагнация) – реверсия – повышательная фаза. Характер преобразований в одном случае эволюционен, в другом инволюционен;
н) кризис государства на Востоке вызывает кризис социальности: страдают низы – от произвола верхов; страдают верхи – от маргинализации, криминализации низов; страдают производители – от подъема бюрократов; страдают бюрократы – от упадка производителей[38]. Смена власти на Востоке – трудно идущий вирулентный акт. На Западе – мощные амортизационные механизмы дистанцируют социальность и государственность. Правительственные кризисы не влекут кризисов гражданских; смена власти здесь – ординарный, санационный акт. На Востоке взыскуют сильной, на Западе правоприменительной власти. На Востоке самоценна сила, на Западе – баланс сил;
о) на Востоке собственность конвертируется на силу (престиж), на Западе – престиж (сила) на собственность;
п) протестное поведение на Западе сфокусировано на неимущих; аналогичное поведение на Востоке – на имущих (ср. с российскими обычаями борьбы с кулаками, фермерами, крепкими хозяевами). Революции на Западе оптимизируют социальную отдачу собственности; революции на Востоке стимулируют передел собственности;
р) цивилизационный рост инициируется урбанизацией – монументальным городским строительством с обслуживающей его инфраструктурой, стоящей дорогого. На Западе ввиду индустриально инновационной ориентированности производства городская культура прогрессирует, на Востоке ввиду аграрно-реставрационной ориентированности производства городская культура деградирует.
Полагая, что продолжительность изложения прямо пропорциональна исчерпываемости авторской трактовки сюжета, перейдем к выводам. Высший смысл сказанного сводится к той мысли, что «странно было бы желать, чтобы народы в образе жизни, в привычках их, степени просвещения и промышленности различные, покорялись с равною удобностью единому образу правления» (Сперанский). Дифференцированность народов понятна. Непонятна «болезнь европейничанья».
Гниение западной цивилизации констатировали Кьеркегор, Маркс, Энгельс, Ницше, Герцен, Хомяков, Киреевский, Шевырев и еще тьма авторов. Почему же западная цивилизация не только живет, но и процветает? Это одна сторона проблемы. Другая состоит в следующем. Говоря о перспективах России, Леонтьев указывает на предпочтительность молодого старому, утверждает: «Как племя… мы гораздо ниже европейцев; но, так как и не преувеличивая (в патриотическом ослеплении) молодость нашу, все-таки надо признать, что мы хоть на один век (? – В. И.) моложе Европы, то и более бездарное (? – В. И.) и менее благородное (? – В. И.) племя может в известный период стать лучше в культурном отношении, чем более устаревшие, хотя и более одаренные племена»[39].
Взгляд Леонтьева и темен, и оспориваем. Довольно апеллировать к Герцену: «Не следует слепо верить в будущее: каждый зародыш имеет право на развитие, но не каждый развивается»[40]. Славянам, выводит Герцен, умной крепкой расе, «богато одаренной разнообразными способностями, не хватает инициативы и энергии»[41]. Есть ли преимущество молодого старому? Каким образом одним народам (Китай, Южная Корея и т. д.) удается преодолеть «свою специфику», а другим (Россия) нет? Наконец, как все это корреспондирует с морфологией истории, о которой Шпенглер, называя время жизни поколений, для каких бы существ они ни рассматривались, числовым значением почти мистического свойства и приписывая эти соотношения историческим цивилизациям, высказывается буквально так: «Каждая цивилизация… каждый взлет, каждое падение и каждая непостижимая фаза каждого из этих движений обладает определенным временным периодом, который всегда один и тот же (? – В. И.) и который всегда имеет свое символическое обозначение»[42].
Каков же в нашем случае временной период для России, какое символическое обозначение в себе он несет?
1.4. Социальное зодчество в России
«Что предсказывает Дух, то выполняет Природа, фиксируя целевоплотительно-продуктивный (относительно мира) статус творящей мысли», – говорит Гете. Конструированием из наличного бытия того, что бытие превосходит, заняты поэтический и прагматический разум, в предельности своего выражения совпадающие с искусством и политикой. И там, и там – проявление духом креативного потенциала, в опоре на полет мысли, воображение созидающего историю мира. Используя формулу Лорана, можно утверждать: история мира и есть, в конце концов, история развития способной воображать мысли.
Идеи сегодня – это действительность завтра (Т. Манн). Верно. Но в тенденции, в перспективе, в принципе. Буквальная же интерпретация платформы, в прямолинейной форме вводящая соблазн непосредственно проекты переводить в исполнение, лишена смысла. В том отношении, что неограниченное нормой справедливости право безудержно воплощать замыслы оборачивается для тела насилием, для души ложью.
Голосующий идейным нетерпением необуздан, страдальчески несамостоятелен, беспокоен, порывист. Процесс трансформации в небывалую сторону известных предметов не разряжается вспышкой субтильных иллюзий, – он отягощает реальность внесением нот фальшивых, жестов бесчестных.
Благодарность не завсегдатай истории. Между тем ясно: существование не может являться заложником хитро-уродливых переплетений, сил, начал, тщаний мысли. Величие человека – не от сана, а от нравственной высоты. Величие мира – не от отрешенности, а от жизненной силы мысли. По способности производить глубокие, опережающие идеи качества ума, вкуса искусства и политики (политической философии) сходны. Однако по умению осваиваться с жизнью и не бедствовать пути искусства и политики разнятся.
Искусство соприкасается с миром, не пребывая на гребне происходящего. Его стихия – не посягающая на судьбу, жизнь, историю, образность, недеятельностные интуиции. Отвлеченные, идеалонесущие, взыскующие сопереживания, они поражают, потрясают, завораживают выразительностью форм, воздерживаясь от забот по преображению мира. Элемент условности, иллюзорности, отстраненности от реальности здесь, таким образом, предзакладывается. Долженствовательное, преодолевающее сущее, удаляющее от него возможное, потенциальное искусство модельно воплотительно, свободно изобретательно, – тут никто не держит, никто не ждет.
Поэт! В твоей предметы воле.Цель искусства – искусство. Оттого – «душевных наших мук не стоит мир». Следует уточнить: мир исторический, судьбический, жизненный. Душевных мук искусство удостаивает мир воображаемый, вымышленный –
Не легкий труд, о боже правый,Всю жизнь воссоздавать мечтой.Ради этих нелегких трудов, в сущности, предпринимается самопреодоление, самопревозможение. И чем значительней, всеохватней оно, тем совершеннее гений. «Судьбы всемощнее поэт», – по причине самопреображения, самопревознесения занятый созиданием собственного воображаемого мира. Богатство, представительность последнего удостоверяют непреходящность творения. Равно как личностную удовлетворенность автора. Сверхцель деятеля искусства – достижение высокого, оправдывающего любой бунт в отношении a priori невдохновительных самых «позитивных реалий».
Ты будешь доволен собой и женой,Своей конституцией куцой,А вот у поэта – всемирный запой,И мало ему Конституций!Широта, глубина, одухотворенность содеянного мечтой, воспарение в эмпиреи, где сам ты «высший суд», означает обретение бессмертия («бессмертен ввек пиит»), свободы, самовыражения, независимости, а с ними – счастья.
Зависеть от царя, зависеть от народа —Не все ли нам равно? Бог с ними. НикомуОтчета не давать, себе лишь самомуСлужить и угождать… Вот счастье.Есть божья правда, действующая в граде божьем. Есть поэтическая правда, действующая в граде романтическом. Страшно далеки они от правды, действующей в граде жизненном. Смысл первой правды – в молитве; смысл второй правды – в «едином музыки напоре» (Блок). Оба эти смысла принадлежат вечному. Смысл третьей, причастной наличному, правды – продолжать жизнь, обеспечивать достойное вершение жизни. Сказанное о конструировании мира искусством оттеняет особость миротворяших политических инициатив, – а именно: выходя за границу идеально-мечтательного, они всесторонне жизненны.
Отсюда проблема: как политике не утратить остатка календарной листвы, как руководствующейся понятиями, схемами, идеалами практически-преобразовательной (не мечтательной) деятельности наладить неущербное (когда «дряхлеют догматы») творение жизни. Не от фантазий, экзальтаций, наитий, а от «позитивных реалий».
Ответ, найденный на Западе, остается неосвоенным в России. Искусство и история, мечта и жизнь здесь удивительным манером спутались. У нас почему-то убеждены, что судьба, как поэзия, творится непосредственно в вечном. Оправданием сему служит канонический панлогизм, признание самозаконности руководствования жизни человеческим разумом.
«Между гегелевою философией и коммунизмом Франции существует самая тесная, самая законная связь», – констатирует Самарин[43]. Проникшись французским экспериментом, и у нас в философии стали искать «свое основание, свой залог самобытности и своей нравственной свободы» (Веневитинов). В философии, однако, ничего подобного не нашли, о чем, итожа поиски, прямо высказал Соловьев, подчеркивая: «Никаких действительных задатков самобытной русской философии мы указать не можем: все, что выступало в этом качестве, ограничивалось одною пустою претензией»[44].
Не найдя в философии, нашли в доморощенной, нередко выраженной в форме сна (как у Сумарокова, Радищева, Улыбышева, Чернышевского) утопии. Русская нива оказалась утопической нивой – почвой грез, мечтаний, фантазий, сновидений, – через подвижничество, рекордизм, пионерство взыскующей создания нового земного рая.
Россия – «красивое и беззаботное чадо европейского семейства», – утверждает Кейнс. Чадо красивое и беззаботное. Непреходящее влияние европейского на российский дух заключается в привитии панлогизма. Со времени подключения к просвещенческой парадигме российское сознание пропиталось идеологией «объективной рациональности» – стремлением устраивать жизнь по разуму; готовностью творить историю по идее; желанием вершить судьбу по логической принудительности. Каков итог? Возобладание в практическом и общественном порядке падкой на прожектирование «размышляющей публики», не останавливающейся ни перед чем (разум ведь нейтрален, техничен, «чист» относительно гуманитарной проблематики) в достижении «высоких» идей.
Я тем завидую, кто жизнь провел в бою,Сражаясь за великую идею.Идею побеждают идеей. Сражаться за идею надлежит не в бою, а в среде академической, обладающей развитым чувством критичности, аналитичности, дискуссионности. Каталог претензий поставляющей «внутреннюю правду» «размышляющей публики» обширен. Здесь достигающие ранга общенациональных идей утопические проекты цельного знания, православной церковности, византийской традиционности, общинного социализма, пролетарского коммунизма. Полет мечты высок, неисповедим. Что же воплощение?
Лобовая проекция идеалий на жизнь сплошь да рядом влекла искажение жизни. Невозможно установить правду, счастье на Земле «механическим путем» (Франк). Где, казалось бы, приближалось чаемое, сек прут; где, казалось бы, претворялось желаемое, давило ярмо; где, казалось бы, намечалось потребное, рубил меч.
Миг вожделенный не наставал. Счастье обетованное ускользало. Жизнь измеряется и мерой утрат. Перед лицом пропасти издержек жизни необходимо понять: коль скоро история творится не в вечном (мечтательном, идейном), следует оставить интенцию на социальное устроение через призму понятий о вечном, имея в виду вечное. Регулятивная природа идеальных символических форм сказывается в ориентации на вечное, мера приобщенности к которому избирается народно-легитимно, консенсуально. Тяга к высокому имманентна: стремление возвышаться, озабочиваться покорением рубежей более значительных отличает сугубо человеческую способность самодвижения. Но это в смысле не итоговом, а тенденциозно катарсическом. «Ценность человека, – говорит Лессинг, – определяется не обладанием истиной, подлинным или мнимым, но честным трудом, употребляемым на то, чтобы достичь истины… Если бы бог, заключив в свою десницу истину, а в шуйцу вечное стремление к истине, но с тем, что я буду без конца заблуждаться, сказал мне: «Выбирай!», я бы смиренно приник к его левой руке, говоря: «Отче, дай! чистая истина – она ведь для тебя одного!»
Без души и помыслов высокихЖивых путей от сердца к сердцу нет.Призвание идеалий не изменять жизнь, а определять помыслы, ориентируя изменение жизни на жизненные реалии.
Искусство не требует почитать свои произведения за действительность. Перекрытие граней условного в восприятии шедевров, срывание всех и всяческих масок, нечувствительность к аллегориям плодят курьезы (посетитель галереи с криком «Довольно крови!» кинулся на картину Репина «Иван Грозный убивает сына»), трагедии (не в меру ретивый расист и служака застрелил исполнявшего роль Отелло актера, оправдываясь: «Пусть никто не смеет говорить, что в моем присутствии негр убил белую женщину»). Нацеленная на преодоление сущего отстраненная образность искусства вдохновительна. «Вдохновение, – указывает Пушкин, – есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных»[45].
Вдохновенность, духоподъемность варьируются в зависимости от углов зрения, воспринимательно-понимательных позиций, интенций. Задумаемся: что изобразил Репин – домашнюю ссору или историческое событие? Сообразно трактовке, что приличествует домашнему просцениуму, а что авансцене истории, складывается отношение к изображенному. Один подход: художник выдержал торжественный стиль, подобающий масштабу исторического. Другой подход: художник «впал в шарж и непозволительное безвкусие, представив вместо царского облика какую-то обезьяноподобную физиономию»[46].
Не суть важно, кто прав. Важно понимание: в центре искусства воображаемый идеал, художественное понятие, получающее представленчески-образное выражение, мера глубины, высоты которого оказывают определенное вдохновительное воздействие на окружающих. Совершенно в ином измерении развертываются социально-политические, общественно-исторические акты. Искусство образно. Политика, связанная с нею жизнь материально-предметна. Вершение жизни нельзя подчинять идеальному, понятийному, мечтательному.
«Разум схватывает не жизнь, а сверхчувственную интеллектуальную интуицию», – настаивает Гегель. Все наше социотворчество есть один сплошной непрекращающийся разумный эскапизм – уход в идейную, интеллектуально-интуитивную иллюзию. Обустройство реальности у нас доктринально; разворачивается как смена умозрительных вех:
православие – самодержавие – народность;Ленин – партия – комсомол;демократия – рынок – открытое общество.Понятия, интеллектуальные интуиции, идеалы есть. Нет жизни, организующейся не по понятиям. Творение истории не историософско. Пора покончить с мелким арапством перед идеологией. Идеи обслуживают, а не заслоняют жизнь. Per fas et nefas у нас ставили метафизические эксперименты по обмирщению идеалов, реификации исторических глобальных целей. Но глобальная история не имеет целей. Цели имеет локальная деятельность. Обустройство локалов по обозримым, вполне внятным планам – вот цель. Любить, верить и служить самим себе – вот программа.
В фокусе не завоевание, а благополучие. Не вообще, а конкретных исторических лицедеев – народов, этносов, лиц, борющихся за собственное понимание свободы, удовлетворения, процветания.
В создавшихся условиях необходима оценка наличных активов, магистралей потребного общественного развития. Нужна трезвая платформа взвешенных инициатив, мобилизующая на созидание гуманного, изобильного, свободного, продуктивного социума.
Перспективной силой, наделенной полномочиями субъекта национального действия, обеспечивающей гражданский мир, благополучие народов России, является, по-нашему, социально-политический центризм, который:
– идейно блокирует экстремизм, радикализм;
– экономически акцентуирует мелиоризм – систему обозримых, осязаемых, улучшающе-преобразующих починов;
– социально исповедует эволюционизм, сбалансированно-некатастрофичные трансформации;
– психологически дискредитирует авангардизм, эсхатологизм, мессианизм.
В самой широкой редакции, следовательно, центризм есть продуманный антимонополизм, избегающий в вершении истории нездоровых претензий на исключительность, декларативность, профетизм, стремлений выступать от имени «большого времени», Прогресса, неизбежно приносящих человеческую судьбу на алтарь «идеала».
Двойные тени двойных истин дают двойную ложь. Вспомним хилиазмы «большого скачка». Сталин замышлял досрочное выполнение пятилеток; Хрущев – контрамериканский животноводческий демарш; Мао – общекитайский бросок. Без ресурсного, технологического обсчета в магические три года. Упоминая об этом без каких-либо претензий, желательно подчеркнуть небезболезненность преобразовательных экзальтаций. И Россия, и Китай, как впоследствии Кампучия, захваченные страстью как бы сбывающейся мечты, пережили трагедию национального холокоста. Откуда видно, что доктринальной мифологии сопутствует бестиализм; безответственный прогрессизм требует якобинизма. Но борьба не создает, а разрушает ценности. Движение через гильотину – маршрут гибельный. Бытие должно быть избыточным относительно срока индивидуальной жизни. Если ради идеального порядка надо топить и вешать, то, как говорил Чехов, к черту такой порядок.
Доказательства ничтожности кабинетно проектируемого существования – примеры, подтверждающие его величие. Потому сусальные краски не пригодны для описания мира, именуемого «наше будущее». Довольно доктринерского изображения действительности, кладущего начало бесчеловечному царству неизменно посрамляемых идей.
Равным образом отвергая как доктринерство, так и бестиализм, ставя при этом на первый план интересы граждан, простых людей, правильно в политической деятельности руководствоваться принципами:
– постепенности, ненасильственности социальных реформ ввиду нежелательности, опасности (многократно усиливаемых ядерными, экологическими факторами) общественных катаклизмов;
– человеколюбия: гармоничное развитие личности, приобщенной к высотам правовой, гражданской, экологической, физической, соматической, интеллектуальной культуры;
– демократического участия: заинтересованная вовлеченность индивида, предполагающая полноту самореализации, его представленность в общественных институтах;
– свободы: гарантии опирающегося на народовластие, правовой строй персонального волеизъявления;
– социальной справедливости: ликвидация пропасти в доходах 10 % наиболее высоко- и низкооплачиваемых, поощрение продуктивной инициативы, обеспеченная оплата таланта, труда, твердые патронажные программы поддержки малоимущих, социально уязвимых слоев;
– этнической терпимости: равноправное, достойное развитие всех этнических групп, имеющих национально-культурную автономию, на условиях федеративного объединения входящих в территориально неделимую Россию;

