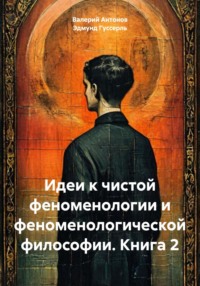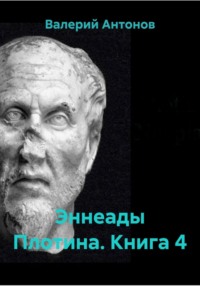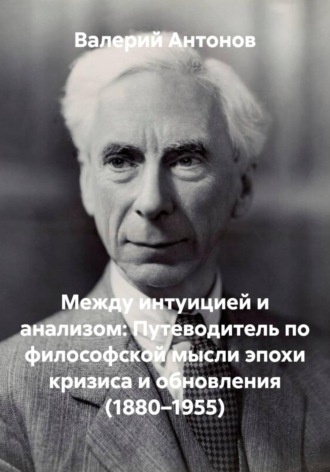
Полная версия
Между интуицией и анализом: Путеводитель по философской мысли эпохи кризиса и обновления (1880–1955)
Бэн вносит в утилитаризм принципиальные корректировки, ослабляющие его «простую целостность», но, по его мнению, необходимые для адекватного описания моральной реальности. Он отмечает, что сфера обязательного долга не тождественна всей сфере полезного: множество общественно полезных действий остаются на уровне личного усмотрения. Кроме того, реально действующие моральные нормы часто укоренены не в расчёте последствий, а в чувстве, привычке или традиции, которая сама может быть наследием прошлой полезности или устаревшего «чувства». Таким образом, принцип полезности, хотя и существенен, не является единственным двигателем морали; его необходимо дополнить психологическим и социологическим анализом фактических мотиваций.
Центральным пунктом психологизации этики у Бэна становится генетическое объяснение совести и чувства долга. Он решительно отвергает концепцию совести как врождённой и автономной способности, предлагая вместо этого модель интернализации внешнего авторитета. Совесть, по Бэну, формируется как «внутренняя копия» управления извне – сначала родительского, затем общественного. Чувство долга возникает через ассоциативную связь между запретным действием и ожиданием санкции. Этот подход смещает фокус с внутреннего морального закона на механизмы социального conditioning, предвосхищая later социологические и поведенческие трактовки морали.
При этом Бэн сталкивается с внутренним напряжением своей теории. С одной стороны, он описывает мораль как продукт социального давления и авторитета, где норма определяется как «законы существующего общества», санкционированные сообществом. С другой – он признаёт роль выдающихся личностей, способных реформировать общественные нравы. Однако он не разрабатывает последовательного объяснения источника этой реформаторской способности, которая, казалось бы, выходит за рамки простой интернализации существующих норм. Таким образом, в его системе остаётся неразрешённым противоречие между конформистской «закрытой» моралью, формируемой обществом, и творческой «открытой» моралью, способной этот авторитет преодолевать.
В итоге, этика Бэна представляет собой своеобразный позитивистский проект в моральной философии: попытку объяснить мораль как эмпирический феномен через психологические механизмы (ассоциация, интернализация) и социальные факторы (авторитет, традиция). При этом его подход несёт в себе релятивистские импликации, поскольку моральная норма оказывается привязанной к конкретному общественному consensus. Хотя Бэн и сохраняет утилитаристский критерий полезности как рациональный ориентир, его основное внимание направлено на дескриптивный анализ того, как мораль реально работает в человеческой психике и социуме, что делает его концепцию важным переходным звеном между классическим утилитаризмом и последующими натуралистическими и социологическими теориями морали.
3. Соединение утилитаризма и интуиционизма у Генри Сиджвика.
Трансформация утилитаристской этики в трудах Генри Сиджвика представляет собой попытку её систематического обоснования через синтез с интуиционизмом, что радикально меняет её эпистемологический статус. Отталкиваясь от утилитаризма Милля, Сиджвик быстро осознаёт его ключевое слабое место – логическую непереходимость от психологического гедонизма (каждый фактически ищет собственного счастья) к этическому гедонизму (каждый должен искать всеобщего счастья). Понимая, что факт желания не может обосновать долг, и следуя юмовскому разделению «есть» и «должен», он приходит к выводу о необходимости иного, философского, а не психологического, фундамента для морали. Таким основанием для него становятся самоочевидные моральные аксиомы, постигаемые интуитивно.
Сиджвик формулирует три таких фундаментальных принципа, составляющих каркас его системы. Принцип благоразумия (разумного эгоизма) утверждает рациональную обязанность индивида предпочитать большее будущее благо меньшему настоящему. Принцип справедливости, или беспристрастности, требует, чтобы при отсутствии релевантных различий мы относились к другим так, как полагаем правильным, чтобы они относились к нам. Принцип рациональной благожелательности предписывает стремиться к общему благу, исходя из того, что с точки зрения Вселенной благо одного индивида не важнее блага другого. Эти принципы, интуитивно очевидные для разума, по мысли Сиджвика, имплицитно присутствуют в морали здравого смысла.
Затем Сиджвик осуществляет синтез: принцип благоразумия обязывает искать собственное благо, а принцип благожелательности – благо других. Их логическое согласование ведёт к предписанию стремиться к благу вообще, то есть к общему благу, частью которого является и собственное благо индивида. Если под благом понимать счастье в гедонистическом ключе (хотя и очищенном от грубого чувственного понимания и прямой погони за удовольствием), то конечным нормативным выводом оказывается универсалистский гедонизм, или утилитаризм. Таким образом, утилитаризм оказывается не исходным постулатом, а конечным результатом строгого применения интуиционистского метода к анализу и систематизации морального сознания. Сиджвик определяет свою позицию как «утилитаризм на интуиционистской основе».
Этот синтез, однако, не разрешает глубинное напряжение, которое сам Сиджвик честно признаёт, – «дуализм практического разума». Противоречие между обязанностью следовать собственному благу (разумный эгоизм) и обязанностью следовать общему благу (благожелательность) остаётся в его системе не снятым окончательно. В земном, посюстороннем контексте эти два императива могут вступать в конфликт, не разрешимый без привлечения теологических предпосылок о божественном воздаянии, гарантирующем гармонию личного и общего счастья, чего Сиджвик как философ-рационалист сделать не готов.
С методологической точки зрения вклад Сиджвика имеет прогностическое значение. Его тщательный анализ, прояснение и систематизация моральных понятий здравого смысла, стремление к концептуальной ясности и выявлению лежащих в основе аксиом предвосхищают подходы аналитической философии XX века. Хотя его апелляция к самоочевидным интуициям может казаться уязвимой, его работа по структурированию моральной аргументации и выявлению её скрытых предпосылок устанавливает новый стандарт строгости в этике. Таким образом, Сиджвик не просто модифицирует утилитаризм, а радикально меняет способ его обоснования, переводя этику из плоскости психологической и социальной детерминации в плоскость рациональной реконструкции и систематического анализа фундаментальных принципов практического разума.
4. Чарльз Дарвин и философия эволюции.
Проникновение эволюционной идеи в эмпиристскую мысль второй половины XIX века ознаменовало собой глубокий концептуальный сдвиг, хотя этот процесс был постепенным и не имел чёткой хронологической границы. Если традиционный эмпиризм, ассоцианистская психология и утилитаризм укоренены в интеллектуальном ландшафте XVIII столетия, то теория эволюции привнесла новое, историческое и процессуальное измерение в понимание природы, человека и общества. При этом важно отметить, что сама идея биологического развития не была новинкой XIX века – её спекулятивные версии возникали ещё в античности, а в Новое время её разрабатывали такие мыслители, как Бюффон и Ламарк. Однако именно работы Чарльза Дарвина придали ей статус научно обоснованной теории, оказавшей беспрецедентное воздействие на философский дискурс.
Дарвин, будучи в первую очередь натуралистом, а не философом, сосредоточился на эмпирическом обосновании механизма эволюции – естественного отбора, основанного на трёх взаимосвязанных факторах: наследственной изменчивости, борьбе за существование и выживании наиболее приспособленных. Его ключевой вклад состоял не в изобретении идеи эволюции, а в предложении убедительного и материалистического объяснительного принципа, который делал ненужным апелляцию к разумному замыслу при объяснении адаптации видов к среде. Этот механизм, одновременно и простой, и мощный, радикально дестабилизировал телеологические представления о природе. Как отмечал Т.Г. Гексли, дарвинизм наносил «смертельный удар» обыденной телеологии, поскольку адаптация возникала не как реализация предсущей цели, а как статистический итог случайных вариаций и безличного отбора.
Философское значение дарвинизма выходило далеко за рамки биологии. Он предлагал новую, нефундаменталистскую модель объяснения сложности и порядка, основанную на историческом процессе, а не на вневременных сущностях или предначертанных планах. Эта модель обладала огромным объяснительным потенциалом для переосмысления человека и его места в природе. В «Происхождении человека» Дарвин прямо применял эволюционный подход к морали, трактуя её как развитие социальных инстинктов, закреплённых в силу своей полезности для выживания группы. Таким образом, этические нормы лишались своего априорного или богооткровенного статуса и представали как продукт естественной истории человеческого вида.
Первоначальный конфликт между дарвинизмом и религиозным мировоззрением, столь острый в XIX веке, со временем значительно смягчился. Эволюционная идея была ассимилирована даже в рамках некоторых теистических и спиритуалистических систем, как это видно на примере творческой эволюции Бергсона или тейярдизма. Однако в момент своего появления дарвинизм воспринимался как вызов не столько конкретным догматам, сколько самой антропоцентрической и телеологической картине мира. Его влияние на философию было опосредованным, но глубоким: он способствовал натурализации философской антропологии, стимулировал развитие прагматизма с его акцентом на адаптивную функцию знания и подпитывал различные формы научного материализма.
Примечательно, что непосредственное распространение и философское осмысление эволюционной идеи в Британии во многом осуществлялось не академическими философами, сохранявшими сдержанную дистанцию, а учёными-натуралистами и вольными мыслителями вроде Герберта Спенсера. Дарвин же, избегая прямой философской спекуляции и теологических дебатов, тем не менее, своими трудами создал новый интеллектуальный контекст, в котором любое серьёзное размышление о человеке, познании, морали и обществе должно было так или иначе учитывать их историческое, процессуальное и естественное происхождение. Тем самым он совершил тихую, но радикальную революцию, последствия которой для философии оказались не менее значимыми, чем для естествознания.
5. Т. Г. Гексли: эволюция, этика и агностицизм.
Томас Генри Гексли представляет собой ключевую фигуру на пересечении научного эволюционизма и философской рефлексии, чья позиция отмечена глубоко оригинальным и, на первый взгляд, противоречивым синтезом. Приняв и активно пропагандируя дарвиновскую теорию эволюции как наиболее состоятельную научную гипотезу, основанную на строго индуктивном методе, Гексли одновременно предпринял её радикальное этическое ограничение, отделив сферу человеческой морали от слепого действия «космического процесса». Его мысль движется в рамках фундаментального дуализма: если природа управляется безличным механизмом борьбы за существование и выживания наиболее приспособленных, то человеческое общество конституирует себя через противоположный «этический процесс», основанный на симпатии, взаимопомощи и сдерживании эгоистических инстинктов. Таким образом, прогресс цивилизации понимается не как продолжение природной эволюции, а как сознательное сопротивление её принципам, как наложение культурных ограничений на естественный отбор внутри социума.
Эта антитеза природы и культуры, однако, не основывается у Гексли на признании духовной или сверхъестественной природы человека. Он твёрдо придерживался эпифеноменалистической концепции сознания как функции высокоорганизованной материи мозга, что сближало его с материалистическим детерминизмом. Тем не менее, Гексли решительно отказывался от ярлыка материалиста, апеллируя к гносеологическим аргументам, восходящим к Декарту и Беркли. Он утверждал, что единственной непосредственной достоверностью обладают наши ментальные состояния, тогда материальный мир предстаёт лишь как вероятная гипотеза. Эта позиция, сочетающая натуралистическую онтологию сознания с феноменалистской гносеологией, может казаться непоследовательной, но она отражает его стремление избежать как редукционистского материализма, так и спекулятивного идеализма.
Аналогичный методологический скепсис определяет и религиозную позицию Гексли, который ввёл в широкий оборот термин «агностицизм». Агностицизм для него – не слабая форма атеизма, а принципиальный отказ от вынесения суждений о том, что принципиально непознаваемо и лежит за пределами научной верификации. Этот подход распространяется как на вопросы о существовании Бога, так и на конечные метафизические основания реальности. Таким образом, Гексли совмещает научный натурализм в объяснении эмпирического мира с последовательным воздержанием от любых догматических утверждений о трансцендентном, что отражает характерное для викторианской интеллектуальной культуры стремление к интеллектуальной честности и неприязнь к крайним, всеобъемлющим системам.
Вклад Гексли, при всей возможной непроработанности его философских построений, заключается, таким образом, в попытке наметить третий путь между воинствующим материализмом и религиозной ортодоксией, а также в жёстком разведении описательного закона природы (космический процесс) и предписывающей нормы культуры (этический процесс). Эта дихотомия стала важным интеллектуальным ресурсом для последующих дискуссий о природе морали в постведаровском мире, подчёркивая, что факт эволюционного происхождения человека не только не предписывает конкретных этических норм, но, напротив, требует их сознательного конструирования в противовес слепым силам природы.
6. Научный материализм и агностицизм: Джон Тиндаль и Лесли Стивен.
В рамках викторианского интеллектуального ландшафта Джон Тиндаль и Лесли Стивен олицетворяют две версии сциентистской позиции, тяготеющей к научному материализму и агностицизму, но расходящиеся в своих философских импликациях и степени системности.
Джон Тиндаль отстаивал «научный материализм» как мировоззрение, выводящее свои основания из методологических принципов естествознания. Его центральный тезис заключался в корреляции каждого ментального состояния с физическим процессом в мозге, что, по его мнению, и устанавливало позицию материалиста. Однако, в отличие от вульгарного материализма, Тиндаль признавал «непреодолимую пропасть» между субъективным опытом и объективными процессами, что делало природу связи между ними тайной. Эта позиция была тесно связана с эволюционным взглядом на материю как на носительницу потенций жизни и сознания, что требовало пересмотра её классического понимания как инертной субстанции. Агностицизм Тиндаля был не просто воздержанием от суждения, а позитивистским утверждением о компетентности науки как единственного источника знания: проблемы, неразрешимые научным методом, объявлялись принципиально неразрешимыми. Религиозный опыт допускался лишь как субъективное переживание, лишённое познавательной ценности. Таким образом, его мировоззрение предвосхищало логический позитивизм с его верификационным критерием и редукцией метафизических вопросов к бессмыслице.
Лесли Стивен, будучи историком идей, развивал агностицизм скорее как общую интеллектуальную установку, чем как стройную теорию. Он отстаивал «методологический материализм» как необходимую перспективу научного исследования, имеющего дело лишь с чувственно воспринимаемым. При этом он отвергал как материалистический, так и спиритуалистический догматизм относительно «последней реальности», считая область за феноменальным миром принципиально непознаваемой – «пустотой», обозначаемой метафизическими терминами вроде «Абсолюта». Его агностицизм был менее системен и более интуитивен: даже при решении всех научных проблем вселенная сохраняет характер неразрешимой тайны. В этике Стивен, в отличие от Гексли, стремился дать эволюционное обоснование морали, рассматривая её как социальный адаптивный механизм: моральные нормы подвержены естественному отбору по критерию повышения жизнеспособности социального организма.
Таким образом, если Тиндаль представлял собой догматизирующий сциентизм, утверждающий всеобъемлющую компетенцию науки и сводящий реальность к её объективной, материальной проекции, то Стивен олицетворял скептический агностицизм, сочетающий методологический натурализм с отказом от построения окончательной онтологии. Оба, однако, разделяли убеждение в автономии моральных ценностей от религиозных догм, хотя и предлагали разные – позитивистско-материалистическую и эволюционно-функциональную – модели их объяснения. Их позиции отражают характерный для позднего викторианства поиск светского, научно ориентированного мировоззрения, пытающегося найти баланс между радикальным эмпиризмом и признанием границ человеческого познания.
7. Дж. Дж. Романес и религия.
Интеллектуальная траектория Джорджа Джона Романеса представляет собой уникальный пример сложного и нелинейного диалога между эволюционной наукой и религиозной верой в викторианскую эпоху. Его путь от ортодоксальной веры через радикальный агностицизм и пантеизм к симпатизирующему, но незавершённому теизму отражает глубинные методологические и экзистенциальные трудности, возникшие при попытке согласовать натуралистическое мировоззрение с духовными исканиями.
Начальный, агностический этап (зафиксированный в «Откровенном рассмотрении теизма», 1878) отмечен строгим сциентизмом: Романес констатирует отсутствие эмпирических доказательств существования Бога, приходя к выводу, что вопрос о божественном существовании остаётся открытым, но неразрешимым для разума, опирающегося на научные данные. Однако впоследствии его позиция претерпевает существенную эволюцию. В своих поздних работах («Мысли о религии», 1895) он пересматривает роль науки, видя в ней не только разрушителя наивных телеологических аргументов, но и косвенного союзника религии. Наука, доказывая «единообразие естественной причинности», раскрывает вселенную как упорядоченную систему, что может служить эмпирической основой для теистической интерпретации мира как выражения божественной воли.
Ключевым поворотом становится признание Романесом ограниченности чисто спекулятивного разума и необходимости иного, целостного подхода к религиозной истине. Он допускает существование особого «органа духовного восприятия», действующего в религиозном сознании, и утверждает, что в поиске Бога должны объединиться «сердце, воля и разум». Таким образом, доступ к религиозной истине возможен не через пассивное умозрение, а через активный жизненный выбор – через действие в соответствии с верой, которое впоследствии может получить верификацию в виде «непосредственного духовного прозрения». Эта прагматическая по духу идея предвосхищает позднейшие концепции религиозного познания как укоренённого в экзистенциальной вовлечённости.
Однако, несмотря на этот концептуальный сдвиг, Романес так и не совершил решающего личного шага к вере. Он признавал, что окончательный выбор в пользу религиозного мировоззрения требует «сурового усилия воли», на которое сам он оказался неспособен. Поэтому его поздняя позиция остаётся по существу агностицизмом нового типа – не воинствующим отрицанием, а открытым, симпатизирующим сомнением. Он отказывается отвергать религиозную возможность a priori и настаивает на том, что риск веры не является безрассудным, поскольку вера обладает потенциально собственным, имманентным способом верификации, лежащим вне компетенции науки. Таким образом, Романес занимает промежуточную позицию между радикальным сциентизмом Тиндаля и уверенной религиозностью: он признаёт рациональную оправданность религиозного взгляда на мир, но экзистенциально остаётся на пороге веры, не переступая его. Его интеллектуальная эволюция демонстрирует, как эволюционная парадигма, разрушившая традиционные основания теизма, одновременно могла стимулировать поиск более сложных, нередукционистских форм религиозности, основанных на интеграции разума, опыта и волевого выбора.
8. Позитивизм: контианские группы, Дж. Г. Льюис, У. К. Клиффорд, К. Пирсон.
Развитие позитивистской мысли в Великобритании после Конта демонстрирует её внутреннюю дифференциацию: от ритуализированных контианских групп до независимых учёных, трансформировавших позитивизм в радикальную феноменалистическую философию науки.
Организованный позитивизм, представленный Ричардом Конгривом и его кругом (Джон Генри Бриджес, Фредерик Харрисон), сосредоточился на популяризации и культовом воплощении контовской «религии человечества», включая создание храмов и ритуальных практик. Этот путь, однако, оставался маргинальным, вызывая ироническую критику со стороны таких фигур, как Гексли.
Более значимым было влияние позитивистской методологии на независимых мыслителей. Джордж Генри Льюис, отойдя от догм Конта под влиянием Спенсера, ввёл важное различие между «результирующими» и «эмерджентными» феноменами, заложив терминологическую основу для будущих философских дискуссий о природе сложных систем.
Наиболее оригинальные разработки принадлежали учёным-математикам. Уильям Кингдон Клиффорд предложил теорию «ментальной материи» (mind-stuff) как решение психофизической проблемы. Эта панпсихистская модель, утверждающая соответствие психического и физического аспектов у каждого элемента реальности, позволяла избегать скачка от материи к сознанию, объясняя последнее как эмерджентное свойство определённой организации «ментальной материи». В этике Клиффорд развивал идею «племенного “я”», рассматривая мораль как подчинение личных интересов выживанию и прогрессу социального организма, что предвосхищало бергсоновскую концепцию «закрытой морали». Его воинствующий антиклерикализм и пропаганда «религии человечества» сближали его с традицией Французского Просвещения.
Карл Пирсон систематизировал позитивистский подход в философии науки. Его феноменализм, восходящий к Юму и Миллю, сводил основу знания к ощущениям, а физические объекты и научные сущности (вроде атомов) трактовал как «ментальные разработки» – конструкты, создаваемые для экономичного описания и предсказания чувственного опыта. Наука, по Пирсону, есть классификация фактов (ощущений) и установление между ними отношений последовательности. Метафизику он отвергал как замаскированную поэзию, лишённую познавательной ценности. Эта позиция, близкая воззрениям Эрнста Маха (который посвятил Пирсону свою работу), предвосхищала логический позитивизм XX века с его верификационизмом и критикой метафизики. Однако радикальный феноменализм Пирсона приводил к парадоксальному заключению: наука, призванная описывать мир, в итоге имеет дело лишь с содержаниями сознания, что ставило под вопрос существование независимой от наблюдателя реальности.
Таким образом, британский позитивизм эволюционировал от социально-религиозного проекта Конта к строгой феноменалистической и инструменталистской философии науки, где знание сводилось к организации чувственного опыта, а научные теории – к полезным инструментам для предсказания и экономии мышления. Этот путь демонстрирует внутреннюю логику эмпиризма, последовательный радикализм которого ведёт к стиранию границы между фактом и ощущением, между миром и его ментальной репрезентацией.
9. Б. Кидд; заключение.
Вообще говоря, можно сказать, что мыслители, упомянутые в этой главе, выражали живое признание роли, которую научный метод сыграл в огромном продвижении человеческого знания о мире. И понятно, что такое признание сопровождалось убеждением, что научный метод является единственным средством приобретения чего-либо, что можно было бы назвать знанием в собственном смысле. Наука, думали они, непрерывно расширяет границы человеческого знания; и если есть что-то, находящееся за пределами досягаемости науки, то оно непознаваемо. Метафизика и теология претендуют на то, чтобы делать истинные утверждения о метафеноменальном; но их притязания ложны.
Другими словами, продвижение подлинно научной точки зрения неизбежно сопровождается продвижением агностицизма. Религиозная вера принадлежит детству человеческой расы, а не действительно взрослому уму. В самом деле, мы не можем доказать, что не существует реальности за пределами феноменов, отношения между которыми изучает учёный. Наука имеет дело с описаниями, а не с окончательными объяснениями. И, насколько нам известно, возможно, такое объяснение существует. Фактически, чем больше феномены сводятся к ощущениям или чувственным впечатлениям, тем труднее избежать понятия метафеноменальной реальности. Но в любом случае такая реальность не может быть познана. И взрослый ум просто ограничивается принятием этого факта и объятием агностицизма.
С Романесом, правда, агностицизм стал означать нечто гораздо большее, чем просто формальное признание невозможности доказать несуществование Бога. Но мыслители более позитивистского склада лишили религию, в том что касается взрослого человека, её интеллектуального содержания. То есть религия должна перестать верить в истинность предложений о Боге. Религия, если взрослый ум способен её сохранить, должна быть сведена к эмоциональному элементу. Но эмоциональная установка должна относиться к космосу как объекту космического чувства или к человечеству, как в так называемой «религии человечества». В конечном итоге эмоциональный элемент религии отделяется от понятия Бога и привязывается к чему-либо ещё, а традиционная религия есть нечто, что должно быть оставлено позади по мере продвижения научного знания.