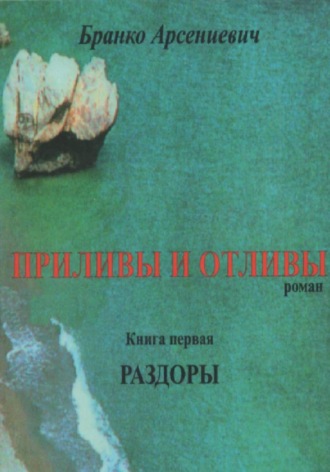
Полная версия
Приливы и отливы. Книга первая. Раздоры
А вода журчала и, будто только что потекла, толкала перед собой откуда-то накопившийся бурьян. Миладин, почёсывая затылок, иногда поворачивался и смотрел в том направлении, в котором только что скрылась голова Милеты.
IX
Этот случай с водой возымел и своё продолжение.
После засушливого лета наступила снежная зима, а затем и буйная весна. Вода в реке Вучице внезапно поднялась, вышла из берегов и снесла мосты. Возвращаясь из школы, Здравко остановился перед Магарицей. Так называли старую, местами подгнившую балку, перекинутую через реку много лет тому назад, когда мост в Дубокальском ущелье ещё не был построен. Перейти в одиночку по балке через реку Здравко побоялся. И тут снизу, из затопленного ивняка, выбежал Милета Лукич, растрёпанный и промокший. Он прошёл мимо Здравко словно не видя его, взобрался на балку, развёл руки и, переступая с ноги на ногу, словно канатоходец, перешёл на другой берег. Затем повернулся и движением руки поманил мальчика к себе: дескать, не бойся. Здравко послушался его и до середины балки дошёл благополучно. И тут загляделся в стремительное течение набухшей реки. Прямо под его ногами на поверхность воды всплыло туловище чьей-то погибшей коровы, коснулось брюхом балки и снова исчезло в волнах. От этого касания балка закачалась, сдвинулась с места, а Здравко, потеряв равновесие, свалился в реку. В голове мелькнула мысль, что он утонет и завтра, когда его найдут мёртвым и тело принесут домой, все в семье будут плакать. Тут перед ним оказалась ветка ивы, ствол которой водой подмыло, ива обрушилась в реку, но корнями ещё держалась за берег, а ветка её трепыхалась в волнах. Он схватился за эту ветку. Ствол ивы согнулся, на миг затонул, но вода, будучи не в силах оторвать его от корней, прибила всю иву к берегу вместе со Здравко. Он оказался на мелководье, ногами коснулся земли и зашагал к берегу. А там, на круче насыпи, стоял Милета и смотрел на него сверху таким же свирепым взглядом, как год тому назад, когда поднял, было, мотыгу на Миладина. И такой вид был у него, словно он собирался ногой ударить Здравко по голове и столкнуть его обратно в реку. Чтобы предотвратить несчастье или хотя бы отсрочить его, Здравко заговорил:
– Вот и её снесло.
– Кого это?
– Да ту иву, которая помогла мне спастись.
– А ты испугался?
– Да, из-за родителей! Они бы плакали. А по мне – так ничего. Даже рад бы был – завтра в школу бы не идти.
Последние слова подействовали на Милету.
– Вот как? В школу, видите ли, ему неохота! А ну-ка вылазь, домой тебя поведу.
А в доме, согревшись и выпив ракию, которую Мария ему преподнесла, всё переиначил и рассказал о случившемся так:
– Шёл я спасать от затопления тот строевой лес, который мне селяне помогли привезти, и тут вдруг увидел другое зло: плетётся по Магарице чьё-то дитя. Узнал я его. А он дошёл до середины, закачался, перекосился и вверх тормашками полетел в ревущий водоворот. Не до леса тут было! «Шут с ним, с лесом, поможет мне Миладин другой добыть и привезти», – подумал я. Главное ребёнка спасти. Добежал я До берега и вижу: торчит в воде его голова, запутанная в мусоре. Откуда не возьмись сила во мне богатырская появилась, и я согнул одну из тех упругих верб, что растут вдоль реки, и крикнул: «Держись за неё, соколок!» Он услышал, как котёнок вцепился в ветку и… Чего тут дальше рассказывать, вытащил я этого промокшего котёнка на берег.
Потом всё лето Миладин и Мария возвращали Милете «должок». Мария его угощала ракией, а Миладин раз в неделю поднимался на Враняк, рубил лес и привозил его Милете. А Здравко всё не решался рассказать родителям всю правду. Всё его что-то останавливало: то – чувство, что он со своей правдой опоздал, то – боязнь, что родители ему не поверят. И это его тяготило. Каждый раз, когда перебирался через Вучицу, снова и снова переживал случившееся с самого начала: в мыслях он падал в бурлившую реку, тонул, хватался за ветку покосившейся ивы, выползал на берег. А затем над ним сверху, с насыпи, нависал Милета Лукич. В дождливые дни он часто просыпался с воспоминаниями об этом случае. Однако вскоре правда мешалась с видениями и слабела в тумане забвения.
И только осенью, когда Милета перекрыл крышу дома лесом, который привёз ему Миладин, пригласил на «обмывку крыши» всё село и снова начал рассказывать про случай на Магарице, у Здравко вырвалось:
– Всё врёт дядя! Вучица лес у него снесла до того, как я тонуть начал. И сначала он один, было, перебрался по балке, не взяв меня с собой. А к насыпи вернулся, когда я уже сам выбрался из реки. Смотрел на меня сверху и хотел ударить меня ногой и столкнуть обратно в реку, но передумал.
– Цыц! Молчи, щенок паршивый! Чтобы я больше не слышала это из твоих поганых уст! – взвизгнула Мария. – Кабы хотел, то столкнул бы. Уж тебя бы не испугался.
И, чтобы не портить веселья, взяла его за руку и силком отвела домой. Поняла, что переборщила, и постаралась ему всё объяснить.
– Дети всегда должны слушаться и уважать старших, конечно (это слово она употребляла, только читая нравоучения ему или Тане), и не вмешиваться в их разговор. И хорошо учиться. А зла, конечно, и у взрослых хватает и даже больше, чем у детей, конечно. Может тогда, весной, в голове Милеты и мелькнула плохая мысль. Может, я не отрицаю. Людская голова, как и Вучица, взбеситься может, когда её захлестнёт дурная кровь. Может, ему вспомнилась та прошлогодняя ссора из-за воды, и он решил воспользоваться случаем и отомстить Миладину. Это бывает в людях, конечно! Но он тебя не столкнул и победил в себе без чужой помощи дьявольское наваждение, которое его на зло толкало. А вместо этого взял тебя за руку, домой привёл и вот теперь перед всеми хвастается и гордится этим своим подвигом. Подвиг это, дорогой сыночек, когда человек вместо зла, которое собирался совершить, изменит своё решение и совершит добро. Поэтому и не считается то, что кто-то чего-то хотел, да не сделал. То, что он хотел, но не сделал, это уже и не его! В расчёт берут другое, последующее и главное: кто кого победил в себе – человек сатану или сатана человека!
Впервые с ним разговаривали так по-серьёзному и без прежнего умалчивания: дескать, цыц! – ты ещё маленький.
Он слушал внимательно и изумился, когда в конце она сказала:
– Знали Деда и Миладин, что не из-за тебя ему Вучица лес отнесла. Отнесла она и без этого, конечно. Но он мог нам навредить и натворить непоправимое зло. У него была возможность нам отомстить. Другой бы на его месте этим воспользовался, не думай. А он – нет! Поэтому Миладин и Деда и решили на добро ответить добром и этим перечеркнуть все старые распри.
Милета всё чаще и чаще к ним заходил. Мария угощала его сливовицей и вяленым мясом. Попивая ракию, он никогда не забывал сказать Здравко:
– А ну-ка, неси свой ранец, покажи дяде, как ты учишься.
Небрежно листал тетради, пока не находил где-нибудь двойку. А тогда теребил его за ухо или волосы и, повышая голос, произносил:
– О-хо! Плохо учишься! Опять кол заработал! Для этого, что ли, я тебя из взбесившейся реки вытащил?
Здравко понимал, что для Милеты безразлично то, как он учится. Его даже больше радовали бы двойки: он морщился, видя пятёрку. Но должен же был сосед чем-то «отработать» выпитую ракию. Пока он тянул Здравко за уши или волосы, на лице его читались невысказанные слова:
– Ну, гнида, будешь ты и дальше болтать, будто я хотел тебя утопить?
– Не буду больше, – отвечал Здравко, но уже на тот, другой вопрос, который вслух произносил Милета: – Будешь снова двойки приносить?
– Никогда?
– Никогда!
– Ладно, не будешь! Ты и прошлый раз говорил, что не будешь, да вот снова двойка!
– Но, дядя! Это же та, прежняя двойка. За неё ты мне уже два раза уши драл, – оправдывался Здравко. А в душе возникало возмущение: почему это родители, которые его сами никогда не укоряют, позволяют чужому человеку, которого к тому же ненавидят, драть ему уши. И почему он должен ему говорить «дядя».
X
Однажды после обеда, пока Тана у Орловой скалы пасла овец, облака, сгрудившиеся было над горами Проклетия, сдвинулись вниз, заволокли всё небо, и через какое-то время ливанул дождь. Овцы скопились под кроной огромного дуба, а девушка побежала укрыться от дождя в Елину пещеру.
Посещение этого подземелья, которое со временем образовалось в отвесной каменной скале над рекой, с остатками затоптанной соломы и прогнившего папоротника вокруг полуразрушенного очага, с деревянными нарами и полуистлевшими постельными принадлежностями, с узлами потрёпанной одежды и котомками пищи, пробуждало в её душе чувство чего-то и знакомого и в то же время пугающего, как у детей, когда они заходят в развалины старых, вымерших поселений.
Обладателем и хозяйкой этой пещеры была Ела Шарович, неповоротливая и слегка тронутая средних лет бродяжка-скиталица, которая поселилась здесь случайно, беременной, пока не родила. А потом, приболев и привыкнув к селянам, которые оказались милосердными, так и осталась тут жить.
Ела в село спускалась редко, а когда приходила, то встречали её хорошо, жалостливо и как бы с чувством вины за постигшую её судьбу. Давали ей кое-что из еды, старой одежды и изношенного постельного белья – без той надменности, которую проявляли к цыганам и прочим бродягам, стараясь не обидеть её, как будто в прошлом она была известной госпожой. Собаки, кошки и дети её любили, никогда в неё камни не кидали, а взрослые видели в ней возможность проявить себя честными и милосердными людьми. Некоторые даже видели в ней Божьего посланца, превращённого в полоумную, которая поселилась в пещере, чтобы наблюдать за ними, определять, что они за люди, и потом об этом сообщить Богу Саваофу. Другие понимали, что никакая она не святая, но всё же были благодарны ей за то, что она предпочла богатым и красивым краям именно их скромную Баневицу, поселилась в пещере и решила свой век коротать вместе с ними.
Тана полюбила её ещё девочкой. Приходила она к Орловой скале вместе с другой детворой посидеть в тёти Елиной пещере, поесть печёной картошки, а когда стемнеет – покидать горящие головёшки с отвесной скалы вниз, наблюдая, как разлетаются и на лету гаснут многочисленные искры. Запомнила она эти вечера, необыкновенные и таинственные, в особенности в дождливые дни, когда внизу, на самом дне ущелья, с зловещим воем проносила свои воды набухшая от дождей Вучица, а сквозь проём входа в пещеру видны были освещенные огнём костра серебристые капли дождя, исчезающие в чёрной бездне ночи. Тогда, под эти звуки, существующие испокон веков, в мыслях возникали картинки вымершего мира, всё вокруг видоизменялось: камни близ пещеры, кривые сосновые стволы на ближайших возвышенностях – всё это превращалось в фей, змеев и ведьм, так что ей боязно было идти домой до тех пор пока снизу, из села, не слышался озабоченный материнский зов:
– О Тана! О Данило! Идите домой! Да не бойтесь же вы!
С тех пор, как родители загрузили её домашними делами, больше в пещеру не поднималась, но этот материнский зов в воспоминаниях сохранился. Вспоминала о нём каждый раз, когда баневичкие матери в сумерки такими же озабоченными голосами звали детей нового, подрастающего поколения. Тана выбегала во двор посмотреть, как с Орловой скалы рассыпаются искры от брошенных в пропасть головёшек.
И вот теперь она снова оказалась в пещере. Ела обрадовалась её приходу.
– Тануша моя, – сказала поднимаясь и медленными шагами, переваливаясь с ноги на ногу, пошла ей навстречу. – Тануша моя, – повторила, обняла её и заплакала. – Долго тебя не было. Потом поворошила огонь в очаге, разгребла пепел, достала мешочек из-под нар, отобрала несколько картошин, уложила их на пепел, кочергой засыпала сверху сначала пеплом, потом углями и, наконец, головёшками.
– Давай, садись. Пока картофель испечётся, хочу тебе кое-что рассказать. Давно тебя жду. И только тебе скажу. Тебе – и больше никому. А ты тоже больше никому не говори, – сказала и замолчала, словно припоминая, что хотела рассказать.
– Ладно, тётя Ела, говори.
– Сейчас, сейчас! Долго тебя не было, и позабыла я. Знаешь ли ты Новицу Радуловича, парня из Чекича?
– Того незаконнорожденного? – переспросила Тана.
– Да, именно того парня красивого.
– Ну, знаю. Видела я его по весне. Приходил на Враняк и состязался с парнями в толкании камня с плеча.
– А знаешь ли ты, что он твоя родня?
– Какая ещё родня?
– Родня, Тануша, родня. Он тебе дядей приходится. Это моё дитя. А зачла я его от одного ветрогона. В глаза я его никогда не видела, но знаю, кто он. Приходил он ко мне ночью в пещеру после того, как огонь потушен. Подкрадывался, ложился рядом, обнимал меня, овладевал мной, а потом уходил. Ни разу ни слова не сказав. А я ему не препятствовала. Тяжко мне было в моём одиночестве. С нетерпением ожидала его прихода. Узнавала по запаху души. Приходили и другие. Но я, боже упаси, никогда ему не изменяла. Я не из тех, которые с любым ложатся, – сегодня с одним, завтра с другим, – а потом не знают – от кого зачли.
– А откуда ты знаешь, кто он, коли никогда его не видела?
– Знаю, Тануша, по запаху души я его узнала. И по руке. Я искала его, искала, пока не нашла. К каждому мужчине в селе подходила, у каждого душу нюхала и его руку в свою брала. До тех пор, пока однажды у меня по телу мурашки не побежали. Так, по руке, я его узнала. Как только я до его руки дотронулась, так дрожь меня и проняла, такая же, как та, которая меня в постели пробирала, когда он брал меня за сиську.
Тану передёрнуло от брезгливости.
– И кто же это был?
– Не скажу. Догадайся сама, ежели Новица Радулович тебе дядей доводится.
Дождь стихал, и река, которую до этого заглушал сильнейший ливень, начала бурлить сильнее. Сверкнула молния, и поблизости раздался раскат грома.
Тана, вскочила.
– Идти мне надо!
– И куда же ты спешишь? Побудь ещё немного, картофель вот уже готов, – сказала Ела, выбирая из очага печёную картошку.
– Не могу, тётя Ела! Овцы у меня под большим дубом остались. Боюсь, как бы гром в них не ударил. Домой их надо отогнать, дождь вон уже затухает, – сказала и, не дожидаясь ответа, выскочила из пещеры наружу, в темень. Спешила вернуться домой, чтобы проверить, ещё сама не зная как, правдивость рассказанного Елой.
XI
С тех пор как Тана оформилась в девушку, Мария всё чаще заводила разговор про то, как должна вести себя девушка, к которой приходит срок замужества. И в этот вечер, после возвращения Таны от Орловой скалы, когда она закончила работы со скотом и легла в постель, Мария уселась возле дочери и после глубокого вздоха, который обыкновенно означал обеспокоенность, начала:
– Надо тебе, Тануша, больше внимания обращать на своё поведение, заботиться о своём девичьем облике, ну и о семье, конечно. Ты внучка Вукашина, прозванного Волком, а отец твой, как тебе известно, был знаменосцем на Барданьёле. Поэтому не дело, ежели парни свистят тебе и мяукают у калитки, как мартовские коты.
– О чем это ты, мама? – спросила Тана.
– Сын Милеты к тебе привязался. Все видят, как целыми днями он вокруг нашего двора увивается. Приходил и сегодня. Уставился из сада на наши окна. Зрачки у него расширенные, белки помутнели, дыхание порывистое, рот раскрытый, а язык высунут, как у собаки, когда ей жарко. Соседское он дитя, говорю, вместе вы росли, и это, конечно, нормально, что он приходит и вы встречаетесь. Но и меру надо знать, не перебарщивать. Неплохой он парень, плохого о нём ничего не скажу, здоровый, сильный, красивый в отца. Но не пара он тебе. Лукичи к жёнам не справедливы. Каждый из себя князя мнит, хочет слуг иметь, командовать ими, господствовать. А раз на это возможности нет, то каждый свою жену в прислугу превращает, и все свои княжеские прихоти на них срывают. Только усы закручивают и по собраниям ходят А жёны им детей рожают и воспитывают, весь уход за имуществом и все тяжёлые работы на них свалены. От непосильного труда их жёны чахнут, калеками становятся, вон как Добрица. Погляди на неё сегодня и тогда поймёшь, что тебя ожидает завтра, если, не дай бог, за Данилу замуж выйдешь. Не всегда она была такой, как теперь, не думай; о её девичьей красе сказы сказывались. А есть ещё и другая причина: их и наша семьи не любят друг друга, и Милета ждёт не дождётся, чтобы увидеть тебя согнутой над тазом и омывающей его грязные ноги, чтобы через тебя хоть немного отомстить Поповичам.
– А ведь действительно – Данило с ума сходит. Как встретимся, так краснеет, язык заплетается, слова сказать не может. Но я не люблю его, мама, хотя мне и приятно, что он, видя меня, становится придурковатым и беспомощным. Он же самый сильный парень на Враняке, но при мне теряет силу, только глазами шарит и в лице меняется.
– Я слышала, что вы сегодня договаривались завтра спозаранку на Враняк отправиться, – открыла Мария причину своей озабоченности.
– Это просто совпадение. Я по своему делу иду, а он по своему. Так почему бы нам вместе не пойти?
– Вдвоём, через леса и дубравы?
Тана ничего не ответила, только улыбнулась с превосходством опытной женщины в обществе девочек-подростков.
Он боязлив и беспомощен как дитя, – добавила. А немного помолчав, спросила:
– Новица Радулович нам родня?
– С чего бы? Незаконнорожденный – и вдруг родня?
– Так говорят, мама.
– Что говорят? Кто говорит? Это бездельники над тобой подтрунивают. Нет ничего между нами, кроме того, что я нашла его наверху, на Чировом Лозе у источника в том году, когда я тобою забеременела, – ответила Мария.
Тана снова улыбнулась. Она вспомнила рассказ, как её нашли: вороны её принесли и подбросили на гумно в снопы пшеницы. «И вообще, в Баневице дети не рождаются, как везде, а каждого где-то находят», – с издёвкой подумала она.
– Давай, рассказывай, как ты его нашла, – сказала, зевнув, потянувшись и положив голову на подушку. Она готова была слушать материнское бормотание и под рассказ заснуть, как это было всегда, когда Мария ей на сон грядущий сказку сказывала.
– Спозаранку поехала я с Враняка в Баневицу – квашеного молока косарям отнести. И такая сонная я на коне раскачивалась, как вдруг кляча сама остановилась. Я хлестнула её прутом, а она – ни с места, копытом землю бьёт и ноздрями фыркает. Слезла я посмотреть, чего это лошадь испугалась, а там было на что поглядеть: лежит замотанный в старое тряпье чей-то новорожденный ребёнок, смотрит на меня и улыбается. И я задумалась: то ли брать его, то ли не брать. Если бы до этого у меня ты была или Здравко, мне бы легче было решиться. А так? Чужого ребёнка в дом принести, когда Бог своего не дал? Я знала, что этим Деда и Миладина пораню в самое сердце. Мать ребёнка, видимо, где-то тут в кустах пряталась. Я её не видела, но чувствовала, что она наблюдает за мной с немой просьбой забрать дитя. Я решилась, взяла его и тайком принесла домой. Деду и Миладину рассказала всё как было и сказала: «Вот он ребёнок, слава богу, здоровый и красивый мальчик. Ежели месяца два его дома тайком нянчить, я бы могла притвориться беременной, а потом пойти к тёте Полексие в Чекич и там как бы его родить». Деда сразу согласился, а Миладин ни в какую: «Этого ещё не хватало, незаконнорожденного прятать под полой и нянчить! Унеси его из дома! Неси туда, откуда принесла!»
Хотя это и был чужой ребёнок, но не могла же я его отнести и бросить в ручей. Да и Деда был против этого. И он подсказал мне: «Неси его в Чекич к Полексие, пусть она его выходит, а мы ей поможем, сколько сможем».
Взяла его Полексия, а этот случай словно отразился и на моей судьбе. Будто во мне развязался какой-то узел, и вскоре я забеременела тобой.
Потом про этого ребёнка в народе молва пошла, будто это Дедов ребёнок, похож очень на него и… Но откуда? Ведь не мог же он его сам себе сделать?
– А Ела? – спросила Тана.
– Какая Ела? – вздрогнула Мария. – Сумасшедшая Ела? Откуда ты это взяла? Прославленный Вукашин Попович чтобы с сумасшедшей Елой связался? Смотри, не сболтни такое ещё кому-нибудь, боже упаси, Тана! Срам это для всей нашей семьи! Позор Вукашина всей своей тяжестью на твой девичий облик ляжет так, что и Вучица его не отмоет.
Говоря это, Мария прятала свои глаза, и для себя Тана сделала вывод, что мать её обманывает и знает она, что Новица внебрачный ребёнок Деда.
XII
Назавтра, только было в Баневичкой долине забрезжил рассвет, а первые утренние лучи солнца золотыми шапками накрыли каменистые вершины гор Яворка и Блеевицы, Данило вбежал в дом с намерением разбудить Тану, чтобы, как они договорились, вместе спозаранку отправиться на Враняк.
Спала Тана с обнажёнными плечами. Во сне она почувствовала, что кто-то на неё смотрит, по привычке натянула на себя покрывало и только после этого открыла глаза, оглядев его непорочным взглядом.
– Ты что здесь делаешь? – спросила удивлённо.
– Мы же вчера договорились, что спозаранку вместе поедем на Враняк.
– Ах, да! – припомнила с лёгким чувством вины. – Мама мне вчера вечером долго не давала заснуть. Приспичило ей со мной разговаривать.
Тана осталась в доме одеваться, а Данило вышел во двор, чтобы вывести из хлева лошадь и оседлать её. Этот спокойный конь настолько изучил повадки домочадцев, что, когда его выводят из хлева, если бы умел говорить, рассказал бы всё, что в течение дня ему придётся делать. Если на грузовое седло положат два цветастых мешка с мукой, значит, они пойдут на Враняк. Хозяин ещё заберётся на него поверх мешков. Но этому пути он всё же больше всего был рад. На Враняке с него снимут седло и уздечку и отпустят на несколько дней пастись по лугам, валяться по траве и играть с другими лошадьми. Поэтому, фыркая ноздрями от предвкушаемых удовольствий, он покорно нёс ношу и, иногда спотыкаясь по крутым тропинкам, торопился изо всех сил поскорее дойти.
Если же вместо мешков с мукой на него грузили вонючие бурдюки с ракией, знал он, что пойдут они в каменистые края и что дорога займёт несколько дней. Но и этот путь его не страшил. Хозяин не погонял его идти быстро, не хлестал и, что самое главное, никогда поверх бурдюков на него не залезал. Шли они не спеша, иногда рядом, а иногда один за другим. Когда шли рядом, Миладин говорил что-то непонятно, но искренно и тепло. Конь это чувствовал. Однако когда они шли друг за другом, то Миладин был погружен в свои заботы, а конь предавался каким-то своим, лошадиным воспоминаниям. В мыслях у него возникали виды прекрасных пастбищ, покрытых сочной, пахучей травой, да ещё табуны коней на лугах и водопоях. Он представлял и себя среди них, скачущим наперегонки быстрее других. Занятый этими своими мыслями, он увлекался, забывался и почти переставал двигаться. Когда бы Миладин, видя, что он замедляет ход, хлестнул его по крупу прутом, он бы вздрогнул от удивления.
Если грузили мешки с зерном, значит, пойдут на водяную мельницу; если верёвки – за сеном, если пилы – то за лесом в горы. Все эти работы он хорошо знал и переносил легко. Только плуга и топора страшился. Не любил тащить хомут и таскать дрова.
Но сегодня ничего этого не было: ни плуга, ни топора, ни верёвок. И вместо грузового седла установили верховое. Он почти забыл, когда в последний раз на него устанавливали это старое седло для верховой езды, но всё же припоминал, что с этим седлом связаны приятные воспоминания, что хозяин накануне установки седла его тщательно чистил скребницей, очищал хвост и ноги у копыт от репейника. А однажды даже отводил на речку – искупать. Припоминал, что, оседлав его этим седлом, хозяин и сам красиво одевался и, что самое главное, прежде чем взмахнуть в седло, приносил из дома торбу и полные сумки овса. Затем лошади с людьми заезжали в какой-нибудь двор, седоки спешивались и надевали лошадям торбы, полные овса. Кони поедали зерно, а люди садились за столы и ели свою пищу и пили ту вонючую жидкость, которую он часто возил в дальние края. Так, это седло и сумки с овсом для коняги стали две неделимые действительности. Всегда, когда на него надевали это седло, по бокам его болтались сумки, полные овса. «Почему же их теперь нет?» – подумал он, когда Тана уселась на него верхом. Может быть, про овёс забыли? Нужно бы как-нибудь о нём напомнить. Как же ему быть там во дворе, когда все кони, сгрудившись, начнут жевать овёс, а у него его не будет. Стыдоба и для него, а уж тем более – для хозяина. Подумал бы только хозяин, как бы его конь себя почувствовал, если, будучи голодным, вынужден был бы лишь смотреть в чужие тарелки. И чтобы как-то довести до сведения всё это, он повернул голову в сторону сарая, откуда только что вынесли седло и где, по его мнению, должны были находиться сумки с овсом, и, поведя ушами, заржал что есть мочи. Ему казалось, что он громко и недвусмысленно выразил своё негодование и пожилые хозяева его бы, безусловно, поняли. А молодёжь как молодёжь, какое им дело до того, что конь Миладина Поповича весь день, пока другие кони будут овёс жевать, должен будет смотреть на чужие торбы и пощипывать по двору горькую полынь.


