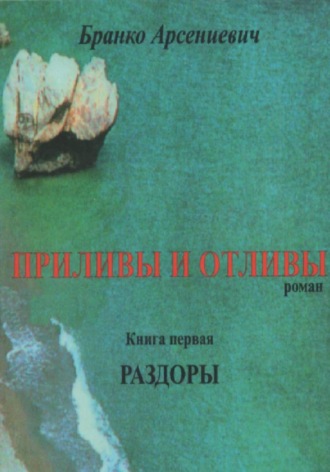
Полная версия
Приливы и отливы. Книга первая. Раздоры

Бранко Арсениевич
Приливы и отливы. Книга первая. Раздоры
Горящее сердце Бранко
Когда жить становится невмоготу и в промоины души, как океанская солёная волна, врывается боль, я вспоминаю о маэстро Бранко…
Сегодня, если бы Бранко Арсениевич был среди нас, ему исполнилось бы чуть более 80 лет.
«Был», «бы»… Прошедшее время и сослагательное наклонение к этому сильному яркому человеку явно неприменимы. Бранко не любил этих слов. И не только из-за труднопроизносимого звука «Ы», напрочь отсутствующего в родном ему сербском языке. Бранко Арсениевич – пример настоящего бойца, человека дела, пассионария.
Его, не очень длинная по меркам черногорцев-соплеменников, жизнь вместила столько событий эпохального масштаба, что любого из них могло хватить с лихвой не на одну героическую биографию. При этом Бранко Арсениевич героем себя не считал. Просто делал своё дело: без лишних слов и цветистых фраз, без столь модных в наше время рефлексий. По-крестьянски обстоятельно и по-мужски твёрдо.
Таким же он был писателем, негромогласным, без стилистических изысков. В прямом соответствии с поговоркой: тише едешь – дальше будешь.
Памятуя об обширном послужном списке Бранко, о его ярчайшей биографии: от черногорского мальчишки-партизана до героя итальянского Сопротивления и дальше – до капитана армии – командира Т-34, от простого крестьянского парня – до видного журналиста, публициста и военкора, от никому неизвестного Бано из деревушки Присоя – до личного врага югославского диктатора Тито, – поневоле ожидаешь от автора головокружительного, напоминающего современные боевики, разворота событий, хитросплетений сюжета, интриг, коварства и любви. По счастью, ничего этого в книгах Бранко Арсениевича нет. Передо мной спокойное, как полноводная, слегка притомлённая летним зноем река, доверительное, раздумчивое повествование.
По словам друзей писателя, часто посреди общего разговора Бранко вдруг замолкал, как бы прислушиваясь к чему-то внутри себя. Осмелюсь предположить, что он слушал голос тишины, которой так не хватало ему в первой, опалённой войной половине жизни. Он и писал странно, посреди повествования переходя внезапно на другой язык. Побывав в мире героев книг русского югослава, мне вдруг захотелось услышать как на этом другом языке разговаривают между собой травы, деревья и цветы, поют птицы, шумят ветра. И что за колыбельные на этом чужом наречии поёт ребёнку мать, что уже к четырнадцати несмышленым годам из птенца превращается он в смелого горного орла, уходит в самостоятельный гордый полёт.
Но орёл ли, сокол – по природе своей одинок. Здесь же ситуация совсем другая. Каждый из героев книги Бранко думает в первую очередь не о себе, а о том, как его слово, поступок, деяние отзовутся в другом. В других: уже ушедших и ещё не рождённых.
В основе личности героев Арсениевича, как мне кажется, – мощный, нерушимый пласт родового сознания. В свете этого поступок собственный рассматривается не только как твоё личное деяние, но как порождение всей совокупности народных обычаев, вековых традиций и коллективной родовой совести. Ты – автономная личность, но, в то же время, – звено бесконечной жизненной цепи, уходящей из прошлого в будущее. И в этом, пожалуй, одна из глубинных основ несгибаемости, бесстрашия и поразительного жизнелюбия как персонажей писателя, так и самого автора книг.
А отчаянных поступков в жизни Бранко предстояло немало…
В апреле 1942 года юный боец Сопротивления был вторично арестован за сбор оружия для восставших и приговорён итальянским военным трибуналом к десятилетнему тюремному заключению во флорентийской крепости Сан-Джиминано, откуда, спустя год, 15 апреля 1943 года бежал. Интересно, что в этот же день апреля через пятнадцать лет Бранко совершит свой второй побег, уже из послевоенной «титовской» Югославии. Через итальянский Триест, швейцарскую Лозанну и чешскую Прагу – в страну с восходящим солнцем на гербе – Союз Советских Социалистических Республик.
Дата эта, 15 апреля, отмечается семьёй Арсениевичей как второй день рождения Бранко.
Лидия Петровна Арсениевич, жена писателя, бережно хранит обширный послужной список мужа, обращаясь к которому узнаю, что Бранко Арсениевич – член двух Коммунистических партий: Италии и Югославии. Что после побега из флорентийской тюрьмы в 1943 году, он воевал в составе 23 бригады имени Гарибальди в Центральной Италии.
В мае 1944 года Бранко снова вступил в ряды Югославской народной армии в составе I Танковой пролетарской бригады, дислоцированной неподалёку от города Гранине в Южной Италии. Летом 1944 года Бранко попадает в СССР, где в военном лагере под Тулой в невероятно суровых для южанина условиях (ночевки курсантов проходили под открытым небом, а точнее, под днищем вверенных боевых машин) обучается на командира танка Т-34.
Затем – снова фронт – II Югославская танковая бригада. Упорные бои уже на территории самой Югославии.
Войну Бранко Арсениевич закончил в звании капитана.
В послевоенном 1947 году, после окончания курсов, бывший боец становится журналистом, корреспондентом военных газет.
Перо молодого журналиста не уступало в остроте штыку и било, видимо, «в лоб, а не пятясь». Недаром, в апреле 1949 года (так уж вышло, что апрель для Бранко в своём роде месяц судьбоносный) после поддержки в средствах массовой информации резолюции Коминформбюро, полностью разделявшей политику Советского Союза, журналист Арсениевич оказывается заточённым в каторжном лагере для противников режима Тито на Голом Острове.
Шесть из десяти лет принудительного наказания, проведённых в застенке под изощрённые пытки палачей, не только не сломили несговорчивого военкора, но и определили стимул всей его дальнейшей жизни. Написать и издать правдивую книгу о зверствах диктатуры Тито и лично диктатора, воспретендовавшего на Нобелевскую премию мира, – стало отныне целью Бранко. Для этого в 1958 году под угрозой нового ареста он нелегально эмигрирует в СССР, получает здесь советское гражданство.
«Приливы и отливы», трилогия, написанная автором на сербском языке, охватывает двадцатилетний (с 1936 по 1956 год) период Югославской истории, включающий картины из предвоенных лет, борьбу народа против фашистских оккупантов и злодеяния диктаторского режима Тито. В настоящее время, стараниями Лидии Петровны Арсениевич, которой посвящена эта трилогия, две книги романа «Приливы и отливы» переведены на русский язык и в самом скором времени увидят свет в России.
За рукописью романа югославские товарищи приехали к смертельно-больному писателю 31 июля 2002 года, а 11 августа сердце Бранко перестало биться.
«Только теперь я понимаю, какая могущественная сила – народ. Это он, его огромная воля к победе толкают молодежь на бесстрашные поступки», – переосмыслив пережитое, писал Бранко Арсениевич в своей первой книге «Цена жизни»:
Жизнь – постоянный, непрерывный процесс, скорее даже не право человека, а его долг, земная миссия, от конечного осуществления которой нельзя отказаться ни при каких, даже самых невыносимых обстоятельствах. Война вторична. Первична и всеобъемлюща жизнь. Тем самым она сильнее войны, сильнее смерти и поэтому, в конечном итоге, не может не победить. Правда крестьянина-земледельца сильнее всех бывших и будущих войн на свете.
Мировоззрение братьев Арсениевичей и их сверстников, черногорских парней из югославской деревушки Присоя (Подсолнушек), формировалось под воздействием целого ряда взаимосвязанных факторов, одним их которых являлась неизменная симпатия к Советскому Союзу, а также живой интерес к преобразованиям, проводимым первой в мире стране победившего социализма, горячая любовь к русскому слову и русской литературе.
Одним из революционных дел молодёжи села, из разряда тех, которые особенно преследовались полицейскими ищейками, была организация громкой читки книг, в том числе наиболее любимой – романа Горького «Мать».
Не в горьковских ли ранних рассказах истоки пассионарности маэстро Бранко? И само его имя, ставшее литературным псевдонимом, не оттуда ли?
«– Что сделаю я для людей!? – сильнее грома крикнул Данко.
И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из неё своё сердце и высоко поднял его над головой». (М. Горький. «Старуха Изергиль».)
Гореть не сгорая – такую высокую цель поставил перед собой Бранко Арсениевич ещё в юности. Миссию свою он полностью выполнил. Воин-интернационалист, борец за правду, журналист, преподаватель итальянского в Саратовской консерватории, яркий писатель и публицист, наконец, глава большой «настоящей черногорской семьи» (два сына-врача, пять внуков и внучка), все члены которой знают в совершенстве язык предков и своей второй родиной привыкли считать Югославию, в свой последний час он мог по праву сказать: «Не плачьте обо мне. Я всё реализовал, что хотел».
Маргарита БОРЦОВА,член Союза писателей РоссииРаздоры
Эту книгу посвящаю своей жене Лидии Петровне Арсениевич – Жуче
Книга издана при поддержке друзей семьиБранко Арсениевича.
Благодарим за помощь в публикации:
Бобкова Дмитрия Сергеевича
Вихлянцева Александра Васильевича
Бабич Сергея Алексеевича
Хабеева Рената Рушановича
Салова Сергея Аркадьевича
Куракина Николая Фёдоровича
Борцову Маргариту Евгеньевну
Преображенского Юрия Владимировича
Семья АрсениевичСЛАВЯНСКИЕ КОРНИБранко Арсениевичу, радетелю славянского братства
Славянское небо —Не знаю бездонней,Земля под ногами —Не мыслю родней.Здесь дом материнскийИ здесь мои корни.Здесь Волга!Здесь вольница!Всё здесь – по мне.В купели крещеньяИщу отраженье,От веку доныне —Едина судьба:Не скверну наживы,А дух очищеньяПод шёпот берёзныйПриемлю в себя.Славянское братство —Нет выше богатства!Отцово наследьеПристало беречь,Хранить в новомодномГрехе святотатстваНародную душу,Славянскую речь.Гудят над РоссиейДубы вековые,Приливно вскипаетКровей моих ток.А боль покаяннаИ ранит навылет:«Глядимся во Запад,А в жилах – Восток!..»Николай КуракинЧитателю!
Вот уже два тысячелетия прошло с тех пор, как южные славяне заселили, Богом, видимо, проклятый, Балканский полуостров. И так исторически сложилось, что стали они делиться на западных и восточных, на католиков и православных, на тяготеющих к австрийцам, или англичанам, или русским, и в этом разделении истребляющим друг друга, разрушающим безжалостно общественное объединение, временами достигаемое неимоверными усилиями.
Роман «Приливы и отливы» повествует о кровавых внутренних распрях среди населения Югославии в период с 1936 по 1956 годы – событиях, которые и обусловили впоследствии развал единого государства южных славян.
Тема романа – гражданская война. Действительные события, подлинные факты и невыдуманные страдания народа литературно обработаны и изложены в виде семейной хроники двух уважаемых патриархальных крестьянских семей, проживающих на севере Черногории. Первый том («Раздоры») охватывает период перед Второй мировой войной и начало всенародного вооружённого восстания против оккупационных войск. Второй и третий тома повествуют о борьбе югославского народа за свободу, о послевоенном устройстве общества и о нечеловеческих условиях в лагере политзаключённых на острове Голый оток. Таким образом, роман «Приливы и отливы» охватывает двадцатилетний период судьбоносного становления новых общественных отношений в существовавшей в то время Югославии.
Бранко АРСЕНИЕВИЧГлава первая
I
Опоясанная с трёх сторон крутыми отрогами горного хребта Проклетия Баневичкая котловина похожа на огромную бочку, срезанную вдоль и опрокинутую наземь. Стороны котловины поросли разнообразным лесом, а низменная часть покрыта обработанными полями, садами и лугами. Предания гласят, что в былые времена «бочка» эта была полна воды. Иссиня прозрачные воды озера омывали склоны гор и орошали луга в высокогорных плоскогорьях Враняк и Блеевица. Затем северный берег озера прорвало, и через образовавшееся Дубокальское ущелье вода из озера вытекла. Дно озера превратилось в Дубокальскую долину, в которой в одном селе Баневица поселились два братства: Чекич и Наковане. О чекичанах точно известно, что раньше они были кочующими скотоводами, что в долине они впервые осели и стали строить свои дома. Со своими стадами коз и овец чекичане обжили верхние склоны долины, поэтому эту часть села и назвали Чекич. А о братстве Наковане предание гласит, что они и до прихода в долину строили дома, разводили огороды и выращивали овощи и кукурузу. Поэтому они и заняли равнинную часть долины, поселившись между двумя ручьями: Добриня и Вучьяк, которые перед входом в Дубокальское ущелье сливаются и образуют реку Вучицу. Эту часть села так и назвали – Наковане.
Для человека, впервые попавшего в село Баневица, братства Чекич и Наковане – жители одного села, у которого единое вероисповедание, кладбище, общие сходки, праздники, обычаи, луга и леса. А они, между тем, отличаются друг от друга, ну, как китайцы от европейцев. В братстве Наковане люди более покладистые, осёдлые, они ближе к городскому жителю. А чекичане ютятся на своих отрогах, как бы нависающих над домами Наковане. Всё, о чём говорится внизу, – в Наковане, у дороги – наверху в Чекиче – прекрасно слышно. А если у чекичан что-нибудь выскользнет из рук, будь то котёл, кастрюля, подойник, бочонок сыра или любой другой круглый предмет, то он катится по склону и останавливается только внизу – в Наковане.
В Наковане сеют кукурузу, выращивают свиней, варят ракию из слив[1]. В Чекиче по-прежнему склонны к скотоводству, пасут отары овец, стада вечно голодных и настырных коз и коров, рост которых чуть превышает рост козла. Раскинутые выше домов кустарники и мелколесье, обглоданные козами, вырубают, жгут и на выжженных склонах несколько лет подряд сеют рожь, пшеницу или ячмень. Затем дожди смывают землю с каменистой основы, и там не растёт уже ничего, кроме колючего сорняка. Потом всё начинается сызнова: вырубают и жгут кустарники и лес в другом месте, образуя поля, пригодные для посева.
И в Чекиче, и в Наковане рождается много красивых и здоровых детей.
Взрослые парни, если до призыва в армию не успели жениться, часто выезжают на заработки в дальние страны, и если Им там повезёт и они хорошо заработают, то высылают оттуда родителям посылки с ношеной, но ещё вполне приличной одеждой, приобретённой на чужбине за бесценок. И в Чекиче, и тем более в Наковане можно встретить всё, чем пользуется мир: от мексиканских сомбреро до японских зонтиков. В Накаване присланным гордятся: одежду одевают по праздникам, вешают на крючки у окон, чтобы прохожим видно было, какими господами стали в миру их дети. А в Чекиче стесняются посланного, стараются у цыган обменять полученное на что-нибудь другое, нужное в хозяйстве. А если это и цыгане не берут, то вешают на пугала – для устрашения птиц.
И одни, и другие очень гостеприимны. В Наковане гостя стараются принять «по-городскому», предлагают чёрный кофе, яйца всмятку, жареную курицу, бисквитные пирожные. Хозяйки еду подают на красивых, безукоризненно чистых тарелках, со звоном вилок о посуду – всё, «как в городе», со словами «милости прошу», «кушайте на здоровье, пожалуйста». Хозяйки безумно рады, если гость хвалит еду или сервировку «как в городе». В Чекиче гостя встречают и угощают одинаково, будь то житель села или города. Гостя потчуют картошкой, варёным или жареным мясом (в основном козлятиной), квашеным молоком, сыром. Угощение готовится без лишней суеты, раскладывается на больших общих блюдах. Угощают, не спрашивая гостя, голоден ли. Сердятся, если гость жеманится и не ест, обижаются, если хозяйскую стряпню не хвалят.
– Ешь, ешь и не отнекивайся: сыр как сыр, а мясо, ежели тебе кажется недосоленным, то соль на столе, а ежели пересоленное, то выпей водички, и всё будет как надо, – говорят.
Из всего, чем угощают, только воду и хвалят.
– Вода ключевая – и царю подавать можно. Вкусная, и пьётся, как медовуха, – говорят. И обижаются, если гость не выпьет хотя бы несколько глотков, а потом не потрёт грудь рукой от удовольствия. Ведь воду для питья они приносят в глиняных кувшинах издалека, сверху, из горных источников на горе Громовник. Вода всегда свежая, приносят её каждый день, и если за день не выпито, то выливается.
– Вода как кровь! Вкусна и лечебна, холодная, ключевая же. А ежели согреется, то уже для питья непригодна, – говорят.
Чекичане в мирное время не уважают никакую власть и помогают каждому, кто по какой-то причине вынужден скрываться в горах от власти. У жителей же Наковане есть несколько дальних родственников, являющихся важными чиновниками в самой столице, в Белграде, и немало мелких служащих в других городах. Поэтому они, хотя и на словах, поддерживают политику правительства. Хвалятся, если их дочери выходят замуж за чиновников, жандармов, попов, а снохи их – так уж получилось – «вылитые» горожанки.
Чекичане стройные и высокие, а в Наковане люди коренастые, низкорослые. Чекичане лучше поют под гусли, а в Наковане, кроме гуслей, умеют играть и на тамбуре, и танцевать танго. Между нами, они друг друга недолюбливают.
– Бог тебя шельмой пометил, будто чекичане тебя делали, – укоряют детей в Наковане.
– Ну и калека ты, от земли до задницы и пол-аршина нет, будто ты в Наковане родился, – услышишь в Чекиче.
Огородники более искусные в Наковане, а про чекичан говорят, что лучших пастухов в мире нет, хотя в Наковане это отрицают.
– Вот, говорят, что чекичане скотоводы хорошие. А какие же они хорошие, если с коровы лишь с полтора литра молока надаивают? Ведь мы же не менее как раза в четыре больше добываем! И что же это за пастухи, коли у них скот дикий и непослушный, быки горазды крышу с дома снести, а петухи надрываются, аж слушать противно. Но только скажи им это, так глаза готовы выколоть. Кошки у них в постели котятся, свиньи в избу заходят, рыскают у очага, хрюкают у стола и готовы кусок хлеба изо рта вырвать.
– А потому и хорошие, что со скотом сжились, не истязают, как другие, и не выцеживают из вымени последнюю каплю, а оставляют молока и телятам и козлятам, пусть и они насытятся и, сытые и довольные, по лугам порезвятся. Скот – здоровый и красивый, людей не боится, а хозяина уважает. Коли чекичанин запряг волов в плуг и ласково приговаривает: «Давай-ка спозаранку, по холодку, бороздок с десяток вспашем», так волы оглянутся, поглядят на хозяина и дружно тянут ярмо аж далеко за полдень. И нет такого скакуна, который бы чекичанина до седла не допустил.
Ну и, конечно, у каждого братства свой предводитель: у Чекича – Милета Лукич, а в Наковане – Миладин Попович. Торжества в селе единые, на праздники все за общий стол садятся, ежели на войну идти, то один в селе Баневица отряд формируется, а вот единого главаря никак не выберут: соперничество всё продолжается.
Лукичи и Поповичи – уважаемые в селе семьи, обе в минувшую войну против врага сражались героически. Из Лукичей в живых остался только Милета, а из Поповичей – дед Вукашин с сыном Миладином.
«Старикашка Вукашин – это да! Был в своё время главарём!» – его первенство Милета признаёт, а вот Миладина – ни в какую! Заслуги перед родиной у них одинаковые: оба офицеры запаса, герои битвы у Барданьёла, имеют одинаковое количество боевых наград и ранений. Правда Миладин с Первой мировой войны вернулся знаменосцем. Зато Милета в селе старается во всём вырваться вперёд: первым навестить больного, проводить в армию призывника, лучшие подарки преподнести роженице. Наружностью он более заметный, чем Миладин, усы у него гуще и длиннее. У него красивая, буйная шевелюра, густые брови, голос громкий, мужественный. Милета на сборах горазд произнести яркую речь и провозгласить красноречивый тост.
Миладин ниже ростом, полноватый, с небольшими усами и реденькой бородкой. На войне не высовывался впереди всех и лучше, чем Милета, умел определить, где можно было по-дурному погибнуть, не совершив подвига, а где совершить героический поступок и при этом не отдать концы. И были у него два неоспоримых довода на захват лидерства в селе: его брат Богдан героически погиб в Балканской войне, а он сам с Барданьёла вернулся знаменосцем. Что касается первого довода, то Милета его признавал, а вот второй – напрочь отвергал.
– Быть знаменосцем – это не его героическая заслуга. Вот как дело было: до него знаменосцем был покойный Баё Раевич, действительно заслуженный и всеми уважаемый боец. И вот однажды перед очередной атакой, он, видимо предчувствуя свою гибель, сказал мне: «Будь рядом со мной и, если меня убьют, бери и неси дальше знамя. Более достойного для этой чести у нас в отряде нет!» И вот в той атаке я держался недалеко от него. Ну, не совсем рядом, чтобы он не подумал, будто смерти ему желаю. А так – то я вырываюсь в атаке впереди него, то поджидаю его, чтобы он меня догнал. И вот прогремели пушки: и наши, и вражеские. Как часто бывает в бою, и те и другие бьют куда попало: и по врагу, и по своим. Мы добежали до заграждений из колючей проволоки. Настал момент, когда так и кажется, что вот-вот смерть настигнет нас. В этой суматохе схватил меня Баё за руку и говорит: «Притормози немного, я не в силах так быстро бежать, пуля в ногу мне попала. Если вырвешься вперёд, а меня ещё другая пуля достанет, то знамя схватит этот бездельник, сын Вукашина. Так он и тянется за мной, словно лиса, чующая чью-то смерть». А тут мы снова поднялись в атаку. Я, как всегда шальной и жаждущий героических подвигов, совсем забыв про знамя, рванулся вперёд через проволочные заграждения во вражеские окопы и влился в рукопашный бой. И в этой стремительной атаке я услышал вскрик Баё: «О Милета! О братец родимый! Сюда, ко мне! Возьми знамя». И увидел, как он, навзничь падая, протягивает мне знамя. Но я слишком далеко вырвался вперёд, а этот бездельник Миладин оказался рядом и тотчас же схватил знамя из рук погибшего Баё. Пробежав с десяток метров, он уткнулся носом в землю и лёжа заорал: «Герои вперёд!» Призывает героев, а героев-то вокруг него нет – они уже все прорвались далеко вперёд. «Эй ты, стыдоба со знаменем, поднимайся, валяй сюда к нам!» – кричат ему вырвавшиеся вперёд бойцы. А он и не видит и не слышит ничего, прильнул к земле и со страху уделался! – в сотый раз рассказывает Милета.
Односельчане же, хотя и чуют, что в словах Милеты есть доля правды, всё же предпочтение отдают Миладину, ведь командование утвердило-таки его знаменосцем. И во главе стола усаживают сперва Вукашина с сыном и только потом – Милету. А на сходках им же первым дают слово сказать. Милета же с этим никак смириться не хочет. Где только удаётся протиснуться, он первым старается речь произнести и говорит всегда витиеватее и дольше других.
II
Свой дом Милета построил на откосе, как раз повыше дома Миладина. Он как бы возвышается над селом, будто и сама изба старается быть самой видной в Баневице. Дом Вукашина воздвигнут у самого входа в Дубокальское ущелье с левой стороны пути, так называемой «стратегической дороги», которая наряду с рекой проложена через теснину. Его дом – это, по сути дела, сложенная из камня твердыня, построенная ещё в былые времена для защиты поселения от внезапных турецких набегов, много раз горевшая, разрушаемая и вновь отстраиваемая. В последний раз Вукашин избу перестраивал в канун Первой мировой войны. Одну треть здания благоустроил, а две других подлатал, перекрыл и переоборудовал в хлев. В благоустроенной части дома – две большие комнаты: одну мастерили мастера строители, а другую (её называют новой) Вукашин сам, своими руками, не спеша, в течение нескольких лет дорабатывал. Между комнатами большое помещение без окон, пола и потолка, в котором сохранился старинный уклад жизни. В середине – большой очаг, огороженный каменными плитами, чтобы угли не рассыпались. К этим плитам прислонены две черепичные пластины для выпечки хлеба. Одна – большая, старинная, местами в царапинах и с зазубринами, на которой пекут хлеб для всей семьи. Другая – поменьше, применяемая при выпечке угощений для гостей или когда кто-нибудь в доме больной. Тут же две большущих кастрюли, медная крышка, которой накрывают черепичную пластину при выпечке хлеба, огромный медный котёл, в котором кипятят воду с пеплом при стирке белья. Над очагом висят чёрные от копоти цепи, прикреплённые к коньку стропил, а на перекладинах вокруг цепей под самой крышей в течение всей зимы и весны коптится по-чёрному мясо, в основном баранина.

