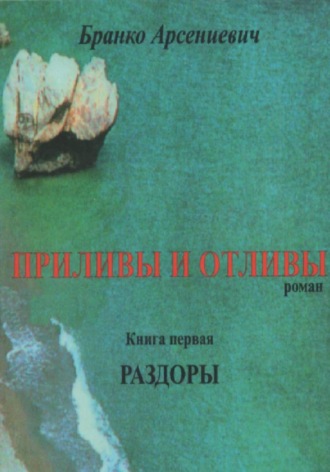
Полная версия
Приливы и отливы. Книга первая. Раздоры
– Вот, папа, я в сына переродилась, – сказала, споткнулась и упала на пол перед ним.
Миладин поднял её, посадил на колени, ласкал и целовал её некоторое время, пока снова сомнения не обуяли его: «Нет, всё же на носатого похожа!».
И руки у него похолодели и затвердели, как камни, судорожно сжались, будто держит он что-то чужое и гадкое, насильно вторгшееся и прилипшее к рукам, как мокрая рубашка к спине, испортившее ему жизнь и загубившее семью. Тана запомнила суровое лицо отца и глаза, источающие животную ненависть. И поняла, что именно она, своим существованием – причина несчастья Миладина.
Миладин весь содрогнулся, а она, испуганная, вырвалась из его рук, кинулась к матери на колени, обняла ручонками шею Марии и пронзительно закричала в ужасе:
– Защити меня, мама! Папа хочет убить меня!
VI
Когда девочке исполнилось четыре года, Мария снова забеременела и родила слабенького, недоношенного мальчика, которого родители, желая ему хорошего развития и здоровья, назвали Здравко. В том же году, спустя несколько месяцев, жена Милеты – Добрица родила дочь, как бы восстанавливая нарушенное равновесие между двумя семьями. В доме Поповичей наследник забрал себе всю родительскую любовь, так что Тана лишилась и тех небольших материнских ласк, которые ей раньше перепадали. Она плакала, испытывая ревность к маленькому братику, в чьём непонятном появлении видела причину своего одиночества. Когда родители оставляли её качать братика, она из мести вместо бутылочки с молоком совала ему в рот палец. А иногда и нос затыкала, заставляя его перекашиваться от недостатка воздуха. Мария это первая заметила и рассказала Миладину. Девочку тотчас же прогнали из новой комнаты, её кровать установили у очага и запретили подходить к люльке. Теперь она спала между бочками с сыром и солениями. Одиночество ещё больше бередило душевную рану девчушки от сознания, что в этой семье она чужая и лишняя. Несколько раз тщетно пыталась она вернуть свои игрушки и одежду на прежнее место, в новую комнату под материну кровать; вечером заранее раздевалась и ложилась в мамину постель. Напрасно упиралась, когда её силком переносили обратно в её кровать. Позже, опять назло, пока Мария кормила грудью сыночка, а Деда и Миладин, уставившись на грудь, считали глотки, выдумывала что-нибудь, лишь бы их позлить. Столкнёт тарелку или кофейную чашечку со стола на пол, чтобы разбилась, или дёрнет кошку за хвост, чтобы та замяукала.
Так Тана боролась за своё место в семье и ту часть родительского внимания, которое ей по неписанным правилам полагалось. Потерпев поражение в этой борьбе, начала приспосабливаться к тому способу жизни, который характерен для заброшенной сельской детворы, и в дубравах вокруг села старалась воссоздать то, чего ей недоставало дома. Вокруг неё образовалась небольшая группа неутомимых исследователей природы. Вместе они бродили по дубравам, находили заросли земляники на лесных полянах и малины у ручейков, кустарники с лесными орехами, необычные разветвлённые деревья с множеством дупел или буйными лиственными кронами, в которых птицы вили свои гнёзда. На опушке дубравы под деревьями с причудливыми стволами сооружали лачуги и в воображении возмещали всё то, чего им не хватало дома, в семье. В эти лачуги Тана перенесла сперва свои игрушки, а потом и немного старой посуды и постельного белья. В играх она исполняла роли матери, невесты, жены. В импровизированном домишке наводила порядок и ругала неряшливых мальчишек:
– Раз вы такие неопрятные и лень вам грязь с обуви очистить, то больше не буду вам женой!
Домой возвращалась поздно, вся исцарапанная, с нечёсаными, запутанными волосами, вся в еловых иголках.
– Ну, совсем как мальчишка! – гордилась Мария, видя, как дочь дерётся с сельской детворой. Особо была рада, если её Тане удавалось отколотить Данилу, сына Милеты.
– Есть ей в кого! И Деда в детстве так хулиганил, – говорили женщины.
– А Деда и позже баловал, – возражали другие, сваливая на Тану все проказы остальной сельской детворы: то Тана со своей группой улей Милана разорила – мёд унесли в лес, скормив его муравьям и другим букашкам; то Тана со своей ватагой за зайцами гонялась – рожь у Тома начисто вытоптали; то наверху, на лугу у Басы, ограду вокруг стогов и два стога прошлогоднего сена сожгли.
Деда и Миладин, делая вид что ругают её за проказы, в сущности гордились тем, что в ней, хотя она и девчонка, бурлит мятежная кровь Поповичей. И были рады, когда им кто-то рассказывал, что на Рашевом гумне или где-то в другом месте, их Тана сына Милеты на лопатки уложила.
Мало-помалу в этих проказах прошло беззаботное детство Таны, и как-то по весне обнаружилось, что плечи её округлились, груди налились и платья на ней начали трескаться по швам.
– Ну хватит, Тана, шалостей, краж и поджогов! До сих пор всё на детство списывалось. Вот ты уже подросла, пора и за дело браться: за скотом ухаживать, пряжу прясть, родителям в домашних делах помощницей стать, завоёвывать славу работящей и хорошей невесты. Нигде в мире ничего даром не бывает. Тем более в нашей несчастной Баневице, – читали ей домашние нравоучение, словно аттестат зрелости вручали.
Тяжело было расставаться с детством, и медленно она привыкала к делам, которые как-то сразу начали валиться на неё со всех сторон. Родители старались загрузить её работой и из-за боязни, что от безделья можно натворить всяких бед, а частично и из эгоизма и укоренившейся в селе привычки использовать до замужества девичью силу и этим в какой-то степени возместить родильные муки и заботы воспитания. Мария дочь иногда жалела, хотя и считала, что поступает с ней правильно. Родители и её саму до замужества загружали работой, так пусть и Тана тоже потрудится. Ничего с ней не случится. Она видная и здоровая, и ежели ещё в народе прославится прилежностью и трудолюбием, то и лучший жених ей достанется.
«А ежели даже замуж не выйдет, то не велика беда! Сыну, Здравко, образование дадим, а она пусть об имуществе заботится», – всё чаще и чаще одолевала родителей эта мысль.
VII
Обделив вниманием дочь, Поповичи стремились единственному сыну дать высшее образование, чтобы стал он господином и жил далеко от Баневицы, от сельской бедности, от обычая кровной мести, восстаний, разбоев и других зол, которые возникали и проявлялись из поколения в поколение. Делали всё, что могли, чтобы огородить его от этих исконных бед и воспитать в нём господина. Для него отдельно, в маленьких бочонках, которые Миладин специально для этих целей смастерил из отборных досок, откладывали сливки и сыр, готовили городские кушанья, пекли лепёшки из покупной муки, приобретали городскую одежду. А позже, когда начал он ходить в школу, запрещали заниматься любым крестьянским трудом.
– Брось всё, бери книгу и учись, образование чтобы получить и господином стать. Чтобы не бедствовать, как твой отец или любой из нас, сколько себя помним, – напутствовали его Деда и Миладин, когда видели, что он брал в руки мотыгу или косу, чтобы поработать ими в своё удовольствие. И как всегда, когда заранее намечена цель воспитания и все силы брошены на её достижение, укоренилась в семье привычка утаивания плохого и приукрашивания достигнутого, то есть умышленная ложь, которую Здравко узрел раньше, чем родители могли предположить.
Как-то осенью, тусклой дождливой ночью, когда Здравко только исполнилось семь лет, семью разбудил чей-то сильный стук в мокрое оконное стекло. Миладин вскочил с кровати, достал засунутую под соломенный тюфяк винтовку, зарядил её, подкрался к окну и, прижавшись спиной к стене, направил дуло на стекло.
– Кто там? – спросил будто спросонок.
– Свои, свои, кум Миладин, – ответил голос со двора.
Мария зажгла свет, Миладин открыл дверь пришельцу, и через несколько мгновений в комнату ввалился кум Лако Чекич, весь промокший и в грязи. Длинную винтовку он положил поперёк коленей, так судорожно сжимая её ствол, что Здравко показалось будто от этого винтовка вспухла и вот-вот лопнет.
Навещал этот Лако их и раньше. Здравко запомнил его по дорогим подаркам, которые он ему приносил каждый раз, когда приходил. Доставал он их из-за пазухи, пояса или из-под толстой суконной накидки, и поэтому они были пропитаны запахом пота и серы. Этот запах каждый раз, когда Здравко брал подарки в руки, напоминал ему о куме.
Лако Чекич был лучшим, а возможно и единственным настоящим другом Миладина. Они познакомились в Наджмеджере, где вместе были в плену. Вместе сбежали, пробираясь через колючую проволоку, переплыли реку Драву и об этом говорили долго и подробно каждый раз, когда встречались. Летом, во время покоса, или осенью, когда начинались жатва и сбор урожая, кум Лако жил у них в Баневице по нескольку дней. Тогда Миладин перебирался из новой комнаты в общее помещение или в сарай. Спали вместе и снова говорили о Наджмеджере, о Црном, о побеге через Драву. Эти разговоры никогда друзьям не надоедали.
Пока Лако у них гостил, в доме чувствовалось истинно праздничное настроение: резали ягнят, жарили и пекли, ели и пили, как на свадьбе. Миладин весело улыбался, не спорил с Марией по пустякам. Были у него с Лако и какие-то секреты, Здравко это заметил. Когда Лако уходил и Миладин снова возвращался назад в новую комнату, Мария говорила ему озабоченным голосом:
– Боюсь, что кум Лако опять тебя в какую-нибудь переделку затянет. Не думай, знают люди, почему он приходит и куда вы по ночам уходите. Всё, в конце концов, становится известным. Ему что, он уверен в себе – у него пятеро детей, может и озорничать.
Долгое молчание Миладина лишь подтверждало опасения. Со вздохом подводил он итог:
– Нет у нас, Мария, другого способа обезопасить семью. Дружим мы, и пока мы вместе, никто ничего сделать нам не посмеет. А ежели поодиночке будем, то враги того и гляди угробят у нас нашего сыночка. Неоплаченных долгов и без его, Лаковых, у нас не перечесть.
Здравко часто, хотя и урывками, подслушивал эти разговоры, укрывшись одеялом и притворившись спящим. Правда, многое не понимал, но чувствовал всю тяжесть и секретность их значения, и это проникало в самую суть его сознания. «Кто это хочет его угробить, и о каких неоплаченных долгах шла речь?» – задумывался он. И, не находя ответа, спрашивал родителей.
– Цыгане, кто же ещё! Они крадут детей, потом уродуют их и как калек водят по миру, заставляя просить милостыню. Поэтому, пока не подрастёшь, никуда от дома не отлучайся, – заготовлен был ему ответ.
Мальчик знал, что его обманывают. Много раз он заставал родителей в новой комнате или у очага перешёптывающимися, но, как только он входил, они или замолкали, или говорили об очевидной небылице.
Но в эту дождливую ночь кум Лако был каким-то другим. Здравко наблюдал за ним украдкой из-под одеяла. Лако сидел молчаливый и хмурый, весь съёжившийся, пугливо озираясь, будто вот-вот настигнет его несчастье, которое гналось за ним через горы. Глазные белки у него помутнели, а на тонкой, сморщенной шее так и дёргался выпирающий кадык.
Потом вошёл в комнату Деда, велел притушить свет и закрыть окна ставнями. Кто-то подошёл к постели мальчика, поднял одеяло и посмотрел на его глаза. Сначала Здравко притворился спящим, хотя у него и мелькнула мысль открыть глаза и сознаться, что не спит. Но потом почему-то он передумал и сильнее сдвинул веки, опасаясь, как бы глаза сами собой не раскрылись. Однако тут же почувствовал, что его уличили во лжи, и от стыда покраснел. Его накрыли одеялом и тихо вышли из новой комнаты к очагу. Потом несколько раз входили, нагибались над ним, прислушиваясь к его дыханию. Наконец он уснул, безуспешно пытаясь расслышать таинственный шёпот, доносившийся до него временами через зазоры закрытых дверей. Когда он утром проснулся, то Лако в доме не было. Деда и Миладин грузили на лошадь бурдюки с ракией, которые Миладин повёз в Герцеговину. Мария и Деда были взволнованы, и, как только стемнело, Мария закрыла ставни. Взгляд её постоянно устремлялся на окно, в которое стучал Лако прошлой ночью. В эту ночь Мария позвала Здравко лечь спать вместе с ней в её кровать.
– Куда это папа утром уехал? – робко спросил он.
– В Герцеговину, куда бы ещё! Ракию на продажу повёз, ты и сам это видел. Деньги нам нужны.
Здравко чувствовал, что его обманывают.
– А кум Лако?
– Какой кум, какой кум? Что за ерунду ты несёшь?
– Кум Лако, который вчера в окно стучал, а потом мокрый вошёл в комнату. Я не спал, я видел его.
– Это тебе приснилось! Никто в окно не стучал. И кум Лако к нам не приходил. С чего бы? Он, когда приходит, всегда тебе подарок приносит. Без подарка он ни разу не приходил. А коли подарка нет, следовательно, и его не было.
– А почему мне кум Лако с винтовкой приснился?
– Хватит, замолчи! Всякое может присниться. Лако вчера не приходил, – уже закричала Мария.
Он понял, что его обманывают. Ведь Миладин и Деда в бурдюки воду залили. Он проверил. Маленький бочонок и сейчас полон, а другой ракии в доме и не было. Недавно в этот бочонок перелили остатки из большой бочки. Отец ещё тогда говорил: «Ежели ещё продавать будем, то на Рождество и горло промочить нечем будет». А Деда ответил, что и литра больше не продадут. Этот разговор Здравко хорошо помнил.
– Папа в Герцеговину воду повёз.
Мария вскочила и вся взбудораженная закричала:
– Молчи! И чтобы не слышала я больше об этом! Ни я, ни кто-либо другой! Боже упаси! Если отца не хочешь загубить! И всю семью нашу! Миладин в Герцеговину ракию повёз. Надо, чтобы об этом все знали. Если кто-нибудь тебя спросит – так скажи. Понимать надо, не маленький уже! – кричала она. Но всё же в её голосе, кроме угрозы, звучала и мольба.
Прошло несколько дней. Мария каждую ночь по несколько раз выходила во двор. А когда засыпала, то вздрагивала во сне и что-то непонятно бормотала. Просыпалась при малейшем шорохе, вставала, подходила к окну и напряжённо к чему-то прислушивалась. А возвращаясь обратно в постель, крестилась и шептала какую-то молитву.
Миладин вернулся домой ночью, весь промокший и как бы прилипший к седлу, словно мешок. Он стонал. Вукашин снял его с коня, положил на подстилку и внёс сына в дом. С хозяина сняли окровавленную рубашку и промыли глубокую рану.
– Эх, Миладин! Видать, досталось тебе в пути! – изумился Деда, увидев рану. Кровь от левого плеча разлилась по спине и залила почти всё тело, так что казалось, будто его надвое перерезали. Вукашин и Мария вздыхали, плакали и сквозь слёзы предупреждали, чтобы не двигался, как будто от этого он может раздвоиться.
– Чем это тебя? – спросил Деда.
– Косой, – простонал Миладин.
Они были так расстроены, что на Здравко не обращали внимания. И только значительно позже, когда наконец заметили его присутствие, изменили тему разговора и стали придумывать небылицу, будто лошадёнка споткнулась и, падая, придавила Миладина острой кромкой грузового седла. Затем его прогнали от очага и заперли в новой комнате, как будто он им чужой или даже шпион, который завтра пойдёт и предаст их жандармам. Никак он не мог понять, почему при любом серьёзном деле они обязательно стараются его обмануть.
Всю ночь Здравко не мог заснуть. В зловещей тишине, которая каждый раз наступала, когда открывалась дверь и кто-то входил в новую комнату, он придумывал сражения, в которых поранили Миладина, и сожалел, что не сможет похвастаться перед ровесниками. А на рассвете пришла Мария, села на его постель и со слезами на глазах предупредила:
– Никому не рассказывай о том, что тебе сегодня приснилось!
– А откуда ты знаешь, что мне приснилось?
– Знаю! Всю ночь ты что-то бредил о возвращении Миладина.
– То есть как – бредил?! Я же видел, что он вернулся раненым.
– Вот я и говорю, что всё тебе приснилось. С чего ты решил, что он ранен? Ведь он вчера вернулся живым и здоровым. И ракию удачно продал. Хорошо спал, позавтракал. А теперь вон на Враняк собрался за лесом для крыши.
Мария говорила серьёзно и смотрела ему в глаза, ни разу не моргнув. Это привело его в замешательство. Даже подумал, было, что всё действительно ему приснилось. И как только Мария вышла из комнаты, он сразу встал, оделся и поспешил за ней к очагу, чтобы найти следы крови или что-нибудь другое, подтверждающее картину всего того, что вчера он видел.
Но ничего не нашел. Кругом был полнейший порядок, как в канун праздника. Везде чистота, ярко горит огонь в очаге, пепел аккуратно сдвинут в кучу, стулья расставлены вокруг стола, входные двери настежь раскрыты, и через них врывается в дом прохладный утренний воздух. Голоса родных звучат даже громче, чем обычно. Миладин сидит бледный и застывший, словно покойник. Лицо его словно бы хранит следы незаконченной битвы за жизнь, а на губах блуждает насильственная улыбка, направленная на то, чтобы никак не проявились те огромные усилия, которые он прикладывал для сокрытия мучавшей его боли.
Во дворе Деда закончил седлать коня. Миладин с трудом встал и, перекосившись, поплёлся к двери, споткнулся и, падая, застонал. Однако снова встал, постоял несколько мгновений, собрался с духом, держась за дверь, вышел из дома и медленно зашагал к лошади.
– Папа! – крикнул Здравко, выбегая из дома, обгоняя отца и пытаясь его остановить. – Никуда не езжай, папа. Ты же не здоров! Не бойся меня, я ничего не видел и никому ничего не скажу. Никому, папа! – сказал и горько заплакал. Он хватал Миладина за брюки, просил вернуться, пытался остановить. Но родители были непреклонны. Деда схватил Здравко за шиворот, отодрал его руки от брюк Миладина, дал ему подзатыльник, оттащил в новую комнату и запер его там.
Зарёванный и глубоко несчастный, он видел, как больного отца сажают на коня и как Миладин, пока лошадь его несла по лугу, превозмогая мучающую его боль, привставал в седле и выкрикивал соседям:
– О Милоня! О Васо! Поехали на Враняк за лесом. День-то какой сегодня выдался!
– Не-е! Не сегодня! А ты когда из Герцеговины вернулся? – отвечали голоса аж с той стороны Вучьяка.
– Вчера вернулся!
– Почём в Герцеговине ракию продал?
– По десятке за литр. В двух местах сбагрил. Да можно было и дороже продать, если бы дольше торговался.
В перекличку вплетались и голоса других, но всё же громче всех звучал баритон Миладина. Он нарочно кричал громко и внятно, чтобы все слышали и запомнили эту перекличку. И никто, кроме Здравко, так по крайней мере ему казалось, не знал, сколько усилий приложил его отец, чтобы скрыть свою болезнь, которая за считанные часы его так скрутила. Сквозь запотевшее стекло он смотрел, как отец по лугу ехал к опушке леса, и мучительным было чувство, что не вернуться отцу живым. Но Миладин всё же вернулся. Ночью, как и вчера. И, как вчера, всё повторилось: Вукашин и Мария сняли его с седла, положили на подстилку, внесли в дом, расстегнули рубашку, промыли рану. Всё было, как и прошлой ночью, но только разговаривали громко и от Здравко ничего не скрывали.
– Эх, дитя, где же это тебя так угораздило? – спрашивал Деда.
– Конь споткнулся, повалился и прижал меня острым концом грузового седла, – врал Миладин нарочито громким голосом, словно специально для кого-то, кто подкрался к окну и подслушивал их разговор.
Отец долго болел. Врача приглашать не хотели, поэтому рана воспалилась и не заживала, а весь дом пропах гноем и какими-то травами, из которых делали настои для промывания раны. Миладина часто навещали родные и друзья. Приходил и Лако Чекич, помогал заготавливать продукты на зиму. И он делал вид, что ничего не знает, прятал глаза под косматыми бровями и спрашивал: «Где это тебя так изуродовало?» А услышав всё тот же ответ, ругал Деда: «И чего это ты не продашь эту старую клячу, ведь она и порожняком еле двигается». И всё это из-за Здравко, словно он дурачок или полицейский доносчик.
VIII
Так, помимо ежедневных нравоучений, которые он чаще всего пропускал мимо ушей, на формирование характера Здравко начали влиять и эти отдельные происшествия. Возникая из небытия, они характеризовали ту, другую, сторону жизни, которую жители Баневицы держали в секрете даже от самих себя и тем более от подрастающего поколения.
Не успел Миладин поправиться от тяжёлого ранения, как наступил засушливый год, земля потрескалась ещё в мае, засохли только, было, проросшие ростки хлебов. Ручей Добриня почти пересох и скрылся под толстым слоем бурьяна. Участились собрания и ссоры по распределению поливной воды. Наконец, согласовали очерёдность. После нескольких мучительных дней ожидания настал черёд Миладина. В доме возникла деловая суматоха. Всю ночь готовили мотыги, прочищали канаву от задвижки на запруде до посевного поля, заделывали переходы, а Миладин дежурил у задвижки, кабы кто-нибудь её из мести не открыл. А чуть, было, забрезжил рассвет, как он пустил воду, распределил её по бороздам и наказал Марии и Тане поочерёдно дежурить у канавы и смотреть за тем, как бы где-нибудь вода не размыла плохо заделанные переходы. Удовлетворённо наблюдал, как засохшие комья земли в воде рассыпаются, словно известь, превращаясь в тёплую, питательную жижу, которая обволакивает обнажённые прожилки корневищ кукурузы. И как напитанная водой кукуруза поднимается и шуршит листочками, словно благодарит его. Работал, усердно, стараясь использовать каждую каплю воды, зная, что запруда быстро опорожнится. И всё, что он не успеет напитать водой, осуждено на погибель. Иногда ему казалось, что с дальнего конца поля, где земля совсем пересохла и кукуруза почти околела, слышны сотни измождённых голосов:
– Воды и нам дай, о Миладине!
– Не погибайте, цветочки мои дорогие, напою я вас водицей студёной, – отвечал он, припевая.
Неожиданно, на два часа раньше ожидаемого, вода в борозды перестала поступать. Начало стихать, а затем и совсем прекратилось чудотворное журчание. Гимн жизни сменил вопль смерти.
– Испили черти воду!
– Не черти, Мария, а это Милета воду на своё поле перевёл, – вспыхнул Миладин и весь взъерошенный, готовый к любому злу, побежал вдоль канавы к запруде.
Здравко понял, что назревает ещё одно из тех зол, которое от него впоследствии будут упорно скрывать, и украдкой побежал за Миладином. Так они вдвоём поднялись на Пелеву вершину и там застали Милету. Он в раскорячку стоял босиком над канавой и завороженным взглядом смотрел, как вода, которую он только что перевёл, срывается вниз на его поле.
– Ты знаешь, что сегодня моя очередь? – спросил Миладин срывающимся жёстким голосом.
– Знаю. Но что мне делать, ежели у меня посевы горят?
– А мои не горят?
– Горят и твои, но у тебя не такая сушь, и кукуруза ещё два дня потерпит. Моя очередь послезавтра, и я тебе верну столько же, сколько сегодня взял.
– Краденое не возвращается, – отрезал Миладин и ударом мотыги разрушил запруду.
Вода опять потекла в направлении его поля. Он согнулся и руками перекрыл проход и для тех небольших струек, которые продолжали просачиваться между комьями земли.
Жалкий вид был у поля Милеты. Маленькое, наподобие круглого противня, огороженное полуразвалившейся стенкой из крупных камней, покрытое увядшей кукурузой, оно прямо-таки чернело, словно пепелище. Вода тут уже бы не помогла, но Милета с этим никак не мог смириться. Помутневшими глазами он смотрел на Миладина, как тот руками сгребает глину и ладошками её заглаживает, чтобы ни капельки воды не просочилось и не утекло на поле Милеты. Тусклый взгляд Милеты остановился на круглой, словно яйцо, лысине Миладина. Вот сюда, по темечку он и ударит его мотыгой, как свинью прибьёт.
«А он и есть свинья! Вон весь сгорбился, роет землю и хрюкает от удовольствия. Э нет, знаменосец, сейчас я тебе вставлю кольцо в рыло, чтобы тебе больше землю не рыть», – подумал и поднял мотыгу.
– Папа! – пронзительно вскрикнул Здравко. Миладин вскочил в тот момент, когда мотыга уже была готова на него опуститься.
Потом несколько мгновений они стояли друг перед другом, как два петуха перед боем, – лицом к лицу, даже усами касаясь.
– Бей, коли надумал!
– Ты бей первый, я не из трусливых! – ответил Милета.
– А ты ещё раз попытайся красть у меня воду!
На этом всё закончилось. В тот момент, когда казалось, что крови не миновать, оба одновременно повернулись, так что даже не известно, кто первый отступился.
– Ну ж, забирай воду, коли у тебя ни сердца ни ума нет, чтобы понять, что вода моему полю нужнее, – в сердцах вымолвил Милета.
– Очередь есть очередь! К тому же у тебя уже всё окончательно сгорело. Даже если бы целиком воду из реки Вучицы сюда перевёл, урожай уже не спасти.
– Папа, он же хотел ударить тебя мотыгой по затылку, убить хотел, – бормотал Здравко, труся за отцом вдоль канавы.
И снова та же «песня».
– Тебе это показалось!
– Как показалось, когда я своими глазами видел, как он поднял мотыгу, целясь на твою лысину на темени.
– А ну замолчи и больше за мной не увязывайся. И глаза могут обманывать. Где это видано, чтобы сосед соседа мотыгой ударил, словно свинью? А то, что кто-то что-то хотел, да не сделал – это не считается, мне, к примеру, не раз хотелось перелететь, как птица, с горы на гору, чтобы вниз пешком не спускаться, а потом вверх не подниматься. Милете не легко, не думай! Семью целый год кормить чем-то надо будет. А как кукуруза у него сгорела, это ты сам видел! Ведь ни одного початка к зиме для скота не соберёт. Если бы он по-хорошему вчера пришёл и у меня попросил поменяться очередями, я бы ему уступил. Сегодня бы он поливал, а завтра я. Это бы ни на что не повлияло. А так, самовольно забрал воду, и я разозлился. А в гневе человек дурнеет. Да, конечно, случается, что в гневе человек человека и убить может. Просто так, ни за что ни про что! Поэтому, ежели злость обуяла, то лучше переждать, пока пройдёт, и действовать, только всё хорошо продумав. Это, конечно, если есть возможность переждать, – рассуждал Миладин.


